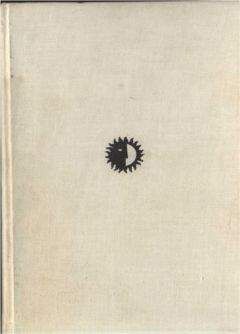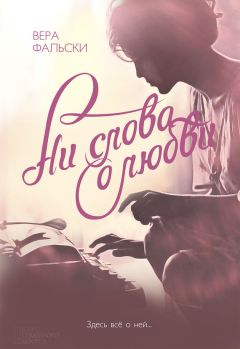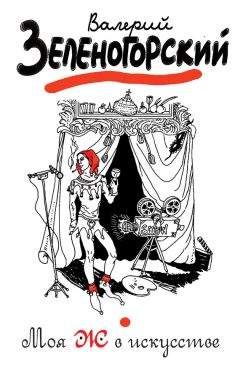Вера Домитеева - Врубель
Когда Мамонтов еще находился под домашним арестом, художники кружка поздравили его с Пасхой замечательным коллективным письмом. Вспомнив многое из «светлых прошлых времен», друзья писали: «Мы, художники, для которых без великого искусства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, внесенное тобой в родное искусство, и крепко жмем тебе руку».
Закончилось время Саввы Мамонтова. Завершался длинный-длинный день русской культуры XIX века. В лирических настроениях поэтов и живописцев заметно вечерело. Последние пейзажи умершего в июле 1900 года Левитана носят названия «Последние лучи солнца», «Сумерки», «Сумрачно», «Лунная ночь», «Летний вечер»…
Для Михаила Врубеля вечер всегда был любимым временем суток. Вечером цвет преображался, наливался необычными оттенками. Николай Иванович Мурашко вспоминал о Врубеле: «В Риме, в сумерки, он однажды остановил меня. „Пойдемте, говорит, вон там к фонтану; там в это время такой тон мутной синевы в воде получается, что мне нужно посмотреть; он мне нужен на завтра“. Смотрел я с ним и ничего не видел, а он смотрел и затих, и онемел, а завтра действительно у него что-то подобное появилось в его громадном плафоне, который он делал по заказу одного московского мецената».
Освещенный тревожным закатным светом грустит врубелевский сидящий в скалах Демон. В ранних сумерках примостился на опушке хотылёвской рощи врубелевский Пан. К отблескам заката в окнах зданий на далеком морском острове уплывает врубелевская Царевна-Лебедь. И всё позднее час, всё таинственнее тишина уже не вечерних, а по-настоящему ночных образов, созданных Врубелем на хуторе летом первого года нового столетия.
Как факт художественной метафизики это стихийное влечение к ноктюрнам многократно отрефлексировано отечественными мыслителями. Вот, например, пассаж из размышлений Николая Бердяева: «Рациональный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают сумерки, мы приближаемся к ночи. Все категории пережитого уже солнечного дня непригодны для того, чтобы разобраться в событиях и явлениях нашего вечернего исторического часа. По всем признакам мы выступили из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную. Это чувствуют наиболее чуткие люди… Падают ложные покровы, и обнажается добро и зло. Ночь не менее хороша, чем день, не менее божественна, в ночи ярко светят звезды, в ночи бывают откровения, которых не знает день».
Тем временем обычные, не метафорические дни отщелкивались своим чередом, особых откровений не приносили, но нервы трепали здорово.
Финансовый крах Мамонтова тяжело ударил по журналу «Мир искусства», ведь Мамонтов успел внести лишь половину своего годового взноса, и более рассчитывать на его деньги не приходилось. Кроме того, зрело недовольство главной журнальной меценатки Тенишевой. Княгиню достаточно явно отстранили от идейного руководства. Редакционные собрания в «её Эрмитаже» прекратились, содержание выпусков и конкретные материалы обсуждались на превратившейся в редакцию квартире Дягилева. Разумеется, Марию Клавдиевну обижало, что высокоумная молодежь предпочитала без нее «сочинять свои хроники, вышучивая и высмеивая всех и вся, задевая людей за самые чувствительные струны». Демарш Репина, поначалу вошедшего в редколлегию, но публично (печатно) заявившего о разрыве с «Миром искусства» из-за ироничных высказываний в адрес польского художника Яна Матейко, еще можно было пережить. Но возмущение княгини насмешками над искусством классика батального жанра Верещагина следовало бы принять серьезнее, чем это сделал Дягилев в ходе нервозных объяснений с Марией Клавдиевной. Истекал срок заключенного с ней договора, и продлевать его издательнице расхотелось. Журналу грозила катастрофа.
Когда перестали поступать средства от Мамонтова, выручили лейб-медик, страстный коллекционер Сергей Сергеевич Боткин (муж дочери Третьякова Александры Павловны) и Илья Семенович Остроухов. Они на паях полгода поддерживали журнал. Но Остроухов был человеком нравным. Сначала у него возник конфликт с Серовым. Валентин Александрович просил дать для экспозиции «Мира искусства» сделанный им и отобранный к показу на Всемирной выставке в Париже портрет остроуховской родственницы. Как один из главных устроителей Русского отдела Илья Семенович отказал. Серов настаивал, действовал через высшее начальство и победил. «Твой поступок, — отписал ему Остроухов, — заставляет меня бесповоротно расстаться с тобою». Затем Остроухов рассорился с Дягилевым. На входившей в остроуховскую коллекцию большой акварели Врубеля «Прощание царя морского с царевной Волховой» владелец после экспозиции произведения у мирискусников обнаружил следы поправок пастельными карандашами. Выяснилось, что Бакст с согласия автора акварели перед выставкой слегка затушевал проступившие белесые пятна. Остроухов разбушевался, пообещав Дягилеву никогда ничего не давать на его выставки и других всячески остерегать от этого. Письма с горячими извинениями Дягилева, как и напоминания об очередном взносе в кассу журнала оставались без ответа. Лишь через два месяца от Остроухова пришел обещанный денежный перевод.
Спас журнал «редакционный академик» Серов, который выхлопотал у государя субсидию на трехлетнее издание «Мира искусства». Однако даже личное монаршее благоволение не спасло самого Серова от болезненных при его щепетильности объяснений с канцелярией Министерства императорского двора, где назначенные Серовым портретные цены сочли чрезмерными. Пришлось, стиснув зубы, доказывать, что четыре тысячи за портрет царя это значительно ниже гонораров, выплаченных иностранным живописцам, что расходы на переезды из Москвы в Петербург или, скажем, специальную поездку в Данию художнику никто не возмещает и т. д. А сколько козней, стычек, распрей клубилось вокруг двухлетней подготовки к Парижской всемирной выставке — историй на многотомную хронику.
Врубель тут был в стороне. О его холстах для демонстрации на международном смотре даже мысли ни у кого не мелькало. Проще ему было и в сфере враждовавших творческих коалиций. Став членом выставочного объединения «Мир искусства», он приобрел определенные экспозиционные льготы и ничего не потерял. Членам Товарищества передвижников (а ими были почти все привлеченные Дягилевым москвичи) требовалось выбрать свой стан. Соответственные колебания, сомнения Михаила Врубеля не волновали.
Где он был вынужден погрузиться в гущу общих тревог, так это в Частной опере. Разорение Мамонтова лишило его театр прочной финансовой опоры. Официально театр Мамонтову не принадлежал, так что долговых претензий к «Частной опере г-жи Винтер» не имелось, и за аренду помещения было заплачено вперед. Но как держаться? Дело взяла в свои руки Татьяна Спиридоновна Любатович. Театральное предприятие было преобразовано в Товарищество Русской частной оперы. Теперь существование труппы зависело от коммерческого успеха спектаклей. Огромные надежды возлагались на обещанную Римским-Корсаковым «Сказку о царе Салтане». И здесь чуть было не сорвалось. «Ко мне, — рассказывает композитор, — совершенно неожиданно приехал Владимир Аркадьевич Теляковский, управляющий московскими казенными театрами. Целью этого посещения было просить меня отдать для постановки в будущем сезоне на Большом московском театре „Сказку о царе Салтане“. Я должен был отказать, так как уже обещал эту оперу Товариществу Солодовниковского театра. Конечно, я сожалел, что дирекция додумалась немножко поздно, но делать было нечего, и пришлось отказать».
Ставить «Салтана» Любатович пригласила умевшего увлечь и развлечь публику Михаила Лентовского. Декорации делал Врубель. Старался изо всех сил, работал столь напряженно, что жена художника забеспокоилась: «Миша так занят этими декорациями, которые я теперь уже ненавижу, что я даже никогда его не вижу; думаю, что ему скоро это надоест, и он бросит, и хотя мы лишимся 400 руб. в месяц, но я почти рада, чтобы он занялся чем-нибудь другим, он слишком утомляется, раздражается…»
Картина «Царевна-Лебедь» часто видится написанной как бы по следам оперной постановки. На самом деле холст был закончен еще весной, а спектакль готовился осенью. Премьера оперы состоялась 21 декабря 1900 года.
Декорации удались. Из воспоминаний актера и режиссера Олега Николаевича Фрелиха: «Занавес раздвинулся, и сразу — шорох в публике. Пестрый сказочный русский город и красный-красный пламень вечереющего неба…» Забела радостно сообщила сестре: «Миша очень отличился в декорациях Салтана, и даже его страшные враги — газетчики говорят, что декорации красивы, а доброжелатели прямо находят, что он сказал новое слово в этом жанре, и все это при такой скорости — в две с половиною недели все было написано».
Благожелательную критику, однако, несколько смутило противоречие мажорной оперы и минорного оформления. Авторитетный Николай Дмитриевич Кашкин в своей обстоятельной рецензии отметил «много талантливого» в работе художника, хотя выразил удивление по поводу ночных картин там, где ремарками либретто четко указывался день. Романтично и выразительно, но почему-то поздним вечером был представлен морской вид первого действия. «Во втором действии море еще лучше, — писал рецензент, — но опять мешает впечатлению темень, прямо противоречащая словам царевича, говорящего: „улыбается нам солнце“, — да и к светлому характеру сказки не идут непроглядные тучи, покрывающие небо». И в третьем действии на берегу острова Буяна опять по прихоти художника царила ночь… Электрические лампочки кокошника царевны мерцали в сумраке эффектно, но ведь не ради трюков, характерных для постановочных затей Лентовского, Врубель настойчиво превращал солнечную сказку в ночное волшебство.