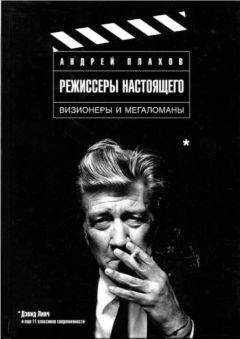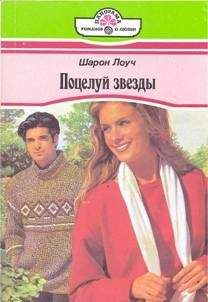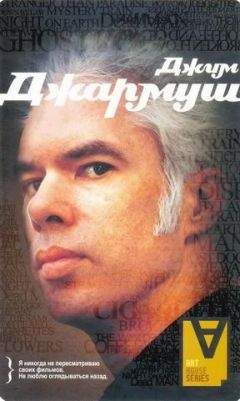Корней иванович - Критические рассказы
— Это не статья, это только схема статьи, — говорил мне Блок. — А статью напишите вы.
Но политические разногласия не мешали ему любить своих старых друзей. В 1918 году, когда за свою поэму «Двенадцать» он подвергся бойкоту Мережковского и Гиппиус, он говорил о них по-прежнему любовно. Вот отрывок из его письма ко мне от 18 декабря 1919 года:
«Если зайдет речь, скажите З. Н. (Гиппиус), что я не думаю, чтобы она сделала верные выводы из моих этих стихов; что я ее люблю по-прежнему, а иногда — и больше прежнего».
Проезжая со мною в трамвае (по дороге из Смольного) неподалеку от квартиры Мережковского, Блок сказал: — Зайти бы к ним, я люблю их по-прежнему. Прав В. А. Зоргенфрей, сказавший в своих прекрасных «Воспоминаниях о Блоке», что, имея недоброжелателей, сам Блок вовсе не знал чувства недоброжелательства. Когда-то, лет 12 назад, В. В. Розанов напечатал в «Русском Слове», что Блок будто бы женился на богатой ради большого приданого; Блок всегда вспоминал об этом с ясной улыбкой и, в своей статье об Аполлоне Григорьеве, прославил В. В. Розанова, как большого писателя, наперекор тогдашним газетным нападкам.
Деликатность у него была необычайная. Весною 1921 года мы затеяли устроить вечер Блока, где выступил бы он со своими стихами, а я прочитал бы о его поэзии лекцию. Эта затея показалась ему привлекательной, но он ставил невозможное условие: чтобы три четверти всего сбора шло мне, а ему, Блоку, лишь — четверть. Напрасно я доказывал ему, что мне довольно и десятой доли; он упрямо стоял на своем. Лишь через несколько дней, и то из деликатной боязни обидеть меня, он взял свое невозможное условие назад.
Вечер Блока состоялся в конце апреля в Большом Драматическом (бывшем Суворинском) театре.
Моя лекция о нем провалилась. Я читал и при каждом слове чувствовал, что не то, не так, не о том, Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал в чью-то уборную. Он разыскал меня там и утешал, как опасно больного. Привел артистов и артисток театра, которые ласково аплодировали мне.
Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, а он — с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного. Это был его последний портрет, снятый Наппельбаумом через несколько минут после того снимка, который ныне приложен к третьему тому «Стихотворений Александра Блока» (Пб., изд. «Алконост», 1921 г.).
Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно, — и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась. Он так и говорил:
— В вашей лекции много неверного. Моей жене ока совсем не понравилась.
Такова была его особенность: в вопросах искусства он не лгал никогда; даже желая утешить, не мог уклониться от правды, говорил ее с трудом, как принуждаемый кем-то, но всегда без обиняков, откровенно. Один избалованный и преуспевающий автор подошел к нему в театре и спросил, как ему понравилась его последняя пьеса. Блок ничего не ответил. Он долго думал, молчал и, наконец, произнес сокрушенно:
— Не нравится.
И через несколько времени еще сокрушеннее:
— Очень не нравится.
Как будто он чувствовал себя виноватым, что пьеса оказалась плохою.
Обо многих моих писаниях он говорил укоризненно:
— Талантливо, очень талантливо.
И в его устах это было всегда порицанием.
XI…Большой Драматический театр, где состоялся последний «вечер Блока», был не чужой для поэта. Блок уже два года (с 1919-го) был одним из директоров Большого театра, председателем его управления. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что для Блока в ту страшную пору этот театр был как бы спасительной гаванью. Всей душой он прилепился к театру, радостно работал для него: объяснял исполнителям их роли, истолковывал готовящиеся к постановке пьесы, произносил вступительные речи перед началом спектаклей, неизменно возвышал и облагораживал работу актеров, призывал их не тратить себя на неврастенические «искания» и пустозвонные «новшества», а учиться у Шекспира и Шиллера.
«— Дорогие друзья, — говорил он им в одной из своих речей (5 мая 1920 года), — в сладострастьи „исканий“ нельзя не устать; горный воздух, напротив, сберегает силы. Дышите же, дышите им, пока можно; в нем наша защита… Вы вашим скромным служением Великому сбережете это Великое; вы, как ни страшно это сказать, вашей самоотверженной работой спасаете то немногое, что должно быть и будет спасено в человеческой культуре».
Актеры набожно любили своего вдохновителя. «Блок — наша совесть», — говорил мне А. Н. Лаврентьев. — «Мы чтили его по третьей заповеди», — недавно сказал мне Н. Ф. Монахов. Блок чувствовал, что эта любовь — непритворная, и предпочитал среду актеров завистливой и предательской среде литераторов. Особенно любил он Монахова. «Монахов — великий художник, — сказал он мне во время поездки в Москву (в устах Блока это была величайшая похвала, какую может воздать человек человеку). — Монахов — железная воля. Монахов — это вот» (и он показывал крепко сжатый кулак). Я помню его тихое восхищение игрою Монахова в «Царевиче Алексее» и в «Слуге двух господ». Мы были с ним в ложе, и он простодушно оглядывался: нравится ли и нам? понимаем ли? — и видя, что мы тоже в восторге, успокоенно и даже благодарно кивал нам. Успехи актеров он принимал очень близко к сердцу и так радовался, когда им аплодировали, словно аплодируют ему.
Театр с детских лет был для него одною из любимейших форм искусства; еще гимназистом он серьезно мечтал о карьере актера. В «Розе и Кресте» он показал себя изумительным мастером сцены. (Почему «Роза и Крест» до сих пор не ставится на сцене? Это — единственная русская трагедия; ее театральный успех несомненен: она доступна самым элементарным умам.)
…В любовном письме к Монахову поразительно признание Блока: «слов неправды говорить мне не приходилось». Многие ли могли бы сказать это на сорок первом году своей жизни?
Для меня эта прямота и правдивость Блока была связана с другой его особенностью, которая почему-то даже пугала меня, — с необыкновенной его чистоплотностью. В комнате и на столе у него был такой страшный порядок, что хотелось хоть немного намусорить. В его библиотеке даже старые книги казались новыми, сейчас из магазина. Вещи, окружавшие его, никогда не располагались беспорядочным ворохом, а казалось, сами собою выстраивались по геометрически-правильным линиям. Я не раз говорил ему, что, стоит ему только подержать в руках какую-нибудь замусоленную книгу, и она сама собою станет чистой. Портфелей он не любил и никогда не носил, а все рукописи, нужные для заседаний, обертывал необыкновенно изящно бумагой и перевязывал ленточкой.
С изумлением перелистывал я издававшийся им в детстве «Вестник», в который он так аккуратно вклеивал картинки, вырезанные им из «Нивы» и «Нови». Ножницами и клеем он владел мастерски, всякую бумажку норовил вырезать и наклеить. В юности, желая сделать своей маме подарок, он вырезал из журналов и газет ее переводные стихи и наклеил их на страницы альбомной бумаги, для которых изготовил особый роскошный футляр. Этот альбом сохранился и теперь, — такой аккуратный и чистенький, словно он сделан вчера.
Все письма, получаемые им от кого бы то ни было, сохранялись им в особых папках, под особым номером, в каком-то сверхъестественном порядке, и, повторяю, в этом порядке было что-то пугающее. В этой чрезмерной аккуратности я всегда ощущал хаос.
XIIЧто сказать о его последней, предсмертной поездке в Москву? Как-то, в разговоре, он сказал мне с печальной усмешкой, что стены его дома отравлены ядом, и я подумал, что, может быть, поездка в Москву отвлечет его от домашних печалей. Ехать ему очень не хотелось, но я настаивал, надеясь, что московские триумфы подействуют на него благотворно. В вагоне, когда мы ехали туда, он был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи, угощал куличом и только иногда вставал с места, расправлял больную ногу и, улыбаясь, говорил: болит! (Он думал, что у него подагра.)
В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. — «Какого черта я поехал?» — было постоянным рефреном всех его московских разговоров. Когда из Дома Печати, где ему сказали, что он уже умер, он ушел в Итальянское Общество, в Мерзляковский переулок, часть публики пошла вслед за ним. Была Пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой. Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло читать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать. В этом было много волнующего: по озаренным луною переулкам молча идет одинокий печальный поэт, а за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные любящие, которые словно чувствуют, что это последние проводы. В Итальянском Обществе Блока встретили с необычайным радушием, и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосом. На следующий день произошло одно печальное событие, которое и показало мне, что болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил (к проф. П. С. Когану), сели пить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал: