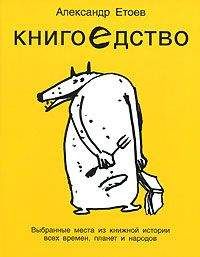Александр Етоев - Книгоедство. Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и народов
И, конечно же, нельзя не упомянуть ту часть графа А. К. Толстого, которую все мы знаем под именем Пруткова Козьмы. Тут он просто великолепен.
Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится,
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться…
Или:
Идет прапорщик Густав Бауер,
На шляпе и фалдах несет трауер.
Да, чуть не забыл. Очень сильное влияние оказал наш поэтический граф на обэриутов. Весь Олейников, например, вышел из цикла «Медицинских стихотворений» Толстого.
Доктор божией коровке
Назначает рандеву…
Муха шпанская сидела
На сиреневом кусте…
Ну не Олейников ли? Нет, не Олейников, а Толстой.
Вот какой был замечательный граф, этот самый А. К. Толстой. Ничем не хуже другого графа Толстого — Льва. А в чем-то, может быть, его и получше. Хотя бороды у обоих были очень даже похожи.
Толстой Л. Н.
Не знаю, как сейчас, но в недавние советские времена станция «Астахово», последний пункт жизненного пути великого старца, называлась «Львово-Толстово». Почему топологи того времени не догадались переименовать Черную речку в Пушкинку, а город Пятигорск в Лермонтогорск, тоже не знаю.
Если бы рукопись любого из сочинений Толстого попала к нынешнему редактору, он бы за голову схватился. «Что… что… что» и «который… который… которому» идут с нечеловеческой густотой, как рыба на нерест в верховья сибирских рек. Мой знакомый писатель Святослав Логинов считает глупостью и ошибкой зачисление Льва Толстого в русские классики. Потому что он писал плохо, грязно, с ошибками. Сам Логинов пишет хорошо, чисто и без ошибок.
Пару лет назад я впервые прочитал трилогию «Детство. Отрочество. Юность». Не для того, чтобы проверить утверждение писателя Логинова. Просто решил прочесть. Ведь обидно прожить на свете, так и не прочитав ее. Да: есть у Толстого «чтоканье». И «который… который… которому» тоже есть. Но только если ищешь намеренно, то есть чтобы с наглядными примерами доказать, что Лев Толстой никакой не классик.
Руку на сердце положа, скажу: более живой, более поэтичной, более интересной книги я не читал давно. Вот, не удержусь, чтобы не процитировать.
Про тучи: «К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали за горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке».
Ради этого одного «подлиннели» стоит читать Толстого. Про людей и человеческие характеры, населяющие его романы, я даже не говорю.
Толстой заслуживает нашего уважения. И не одними бородатостью и «толстовством».
2.Очень интересно в литературной (и окололитерататурной) истории то, как тот или иной литератор относился к своим собратьям по ремеслу. Характерен в этом смысле Лев Николаевич Толстой, чьи высказывания по поводу отдельных писателей и их произведений, мягко говоря, не всегда соответствуют тому образу святочного бородатого Деда Мороза, каким мы часто себе представляем Толстого. Тургенев в поздние годы скажет о Льве Толстом: «Этот человек никогда никого не любил». Но то же самое, слово в слово, записал о Тургеневе и Толстой в Дневниках 1854–1857 годов. Вот еще выписки из его Дневников: «Полонский смешон…», «Панаев нехорош…», «Авдотья (Панаева. — А.Е.) стерва…», «Писемский гадок…», «Лажечников жалок…», «Горчаков гадок ужасно…». А вот снова о Тургеневе: «Тургенев скучен…», «Тургенев — дурной человек…» Находим запись о Пушкине: «Читал Пушкина… „Цыганы“ прелестны… остальные поэмы, исключая „Онегина“, — ужасная дрянь…» Не остался без колкой толстовской характеристики и Николай Васильевич Гоголь: «Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь…»
А вот его мнение о «любимой» тетушке Ергольской — прототипе обаятельной Сони «Войны и мира»: «Скверно, что начинаю испытывать скрытую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь. Надо уметь прощать пошлость…»
Теперь процитирую записи Толстого сразу же по его возвращении из-за границы: «Противна Россия. Просто ее не люблю… Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна…»
«Прелесть» Ясная, кстати, приносила Толстому ежегодный доход в две тысячи рублей серебром, плюс литературные заработки, которые давали писателю еще около тысячи рублей в год. При таких-то средствах, как у Толстого, Россию можно было и ненавидеть.
«Толстой, — писал Тургенев в Петербург Анненкову, путешествуя вместе с Львом Николаевичем по Франции, — смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, — высоко нравственное и в то же время несимпатичное».
Вот такие нехрестоматийные выражения бытовали в русской литературе, таковы ее кухня и мастерская, и, если бы все было иначе, не было бы ни «Войны и мира», ни «Казаков», ни «Отцов и детей», ни открытий, ни взлетов, ни поражений, а была бы одна ровная местность с изредка торчащими невзрачными холмиками мелких Кукольников и причесанных Боборыкиных.
«Три мушкетера» А. Дюма
Несколько раз я слышал странное мнение, что «Три мушкетера» Александра Дюма — книга вредная и ненужная и что ее не следует давать читать детям. Потому что ее герои занимаются черт те чем: пьют вино, дерутся на шпагах, развратничают, воруют бутылки через дырку в потолке магазина, убиваю женщину и так далее и тому подобное. Первый раз такое мнение я услышал на писательском семинаре в Дубултах в 1990 году от кого-то из молодых писателей. Второй раз я услышал такое мнение от одного известного питерского фантаста на Семинаре Б. Н. Стругацкого. Третий раз я услышал аналогичное мнение от старой дамы, профессорши, университетской преподавательницы, в случайно слышанной по радио передаче.
Она вообще выступала за запрещение много чего в русской и нерусской детской литературе: в частности, книги и фильма о Малыше и Карлсоне, потому что Карлсон, во-первых, живет на крыше, а значит — бомж, и уже одним этим подает дурной пример для подростков, во-вторых, он все время врет, без меры ест сладкое, подставляет вместо себя других, когда требуется отвечать за содеянное, и прочее и тому подобное. Запрещению подлежат Буратино и Вини-Пух — практически по тем же причинам, сказка про Машу и трех медведей — за то, что маленькая ее героиня пришла в чужой дом, всё там съела, поломала, а потом убежала от заслуженного наказания.
Вот и мушкетеры Александра Дюма угодили под каблук этой дамы. А такой переворот в ее мыслях произошел после посещения США, где борьба за политкорректность достигла таких масштабов, что в некоторых штатах Америки запретили Тома Сойера с Геккльбери Финном и изъяли все подозрительные места из классических детских книжек.
Так что, дорогие читатели, пока еще на школьных дворах не пылают костры из книг, в которых политкорректность не дотягивает до необходимого уровня, срочно покупайте «Трех мушкетеров» и читайте, перечитывайте, давайте читать другим. Пока не настал День Гнева.
Тургенев И.
У Ивана Сергеевича Тургенева были очень своеобразные литературные вкусы. Вот что он говорил Некрасову, когда тот в «Современнике» напечатал «Полиньку Сакс», первое произведение начинающего тогда А. В. Дружинина, известного впоследствии литературного критика и основателя Литературного фонда:
Вот это талант, не чета вашему «литературному прыщу» (Достоевскому. — А.Е.) и вознесенному до небес вами апатичному чиновнику Ивану Александровичу Гончарову. Эти, по-вашему, светилы — слепорожденные кроты, выползшие из-под земли: что они могут создать? А у Дружинина знание общества… И как я порадовался, когда он явился вчера ко мне с визитом — джентльмен!..
Вообще, проблема «комильфо» и «не комильфо» Тургенева, похоже, волновала больше, чем проблема писательского таланта. На этой, в основном, почве и возникла его знаменитая вражда с Достоевским — вернее, наоборот: Достоевский, сперва раздраженный показным аристократизмом Тургенева, а в дальнейшем прозападным пафосом его сочинений и романом «Дым» в частности, разорвал с ним всякие отношения.
«Не люблю тоже его аристократически-фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное его книга меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги, состоит в фразе: „Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве“», — пишет Достоевский в письме А. Майкову из Женевы в августе 1867 года.
Забавный, но характерный для облика Тургенева эпизод рассказан Авдотьей Панаевой в ее богатых живыми подробностями «Воспоминаниях»: