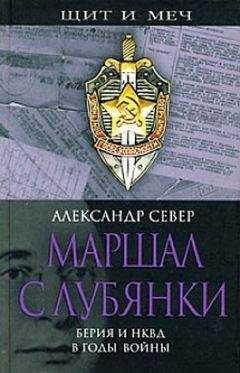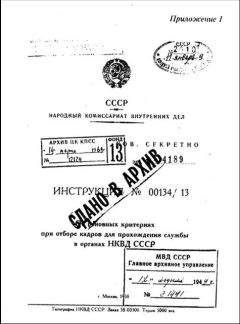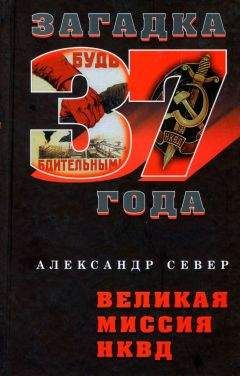Виссарион Белинский - Сто русских литераторов. Том третий
И вот оттого-то, что не нашлось предмета, «который бы сам дохнул бурей Везувия на эту клокочущую Этну», эта «клокочущая Этна», в отсутствие пылающего поручика, хочет выйти за одного преглупого, но богатого помещика с огромным брюхом. Когда кипящий поручик воротился из отпуска, Этна плясала на балу. Тогда Везувий послал денщика на кладбище, чтоб тот вырыл ему могилу, а сам отправился в дом клокочущей Этны и подкупил ее горничную, которая и поместила Везувия в спальне Этны, между стеною и шкафом. Этна воротилась домой, раздеваясь, назвала Везувия мальчишкою (в чем и не ошиблась) и легла спать. Тогда Везувий схватил Этну за руку, произнеся гробовым голосом: «Вставай, недоступная красавица, я пришел за тобою…» Страшно, читатели, не правда ли? Не беремся передать всех надутых фраз, всей гробовой чепухи, которую молол Везувий Этне; но вот для образчика: Этна говорит: «Но куда? и зачем?» Везувий отвечает: «На кладбище, жизнь моя, на кладбище: там я уже велел приготовить нам ванну широкую, прохладную… а пилюли со мною; вот они тут, их не видно в этих железных трубках, но они, право, тут!.. Пойдем же в мою роскошную ванну, засядем в нее, примем сперва по одной штучке из этих трубок, только по одной! и потом отдохнем в ванне… долго… долго…» Бррр!.. Страшно!.. Но не бойтесь за Этну: ее вовремя вырвал из рук Везувия друг его, ротмистр; она скоро оправилась и вышла замуж, а Везувий умер от воспаления в мозгу, который у него давно уже был в расстроенном положении: единственная причина, почему он в продолжение всей повести говорил книжными и надутыми фразами a la Марлинский… Когда же он умер, на свете стало одним глупцом меньше – единственная отрадная мысль, которую читатель может вынести из этой галиматьи!..
Портрет покойного Ушакова был бы совершенным сюрпризом для русской публики, если б только он не опоздал пятнадцатью годами и если б приложенная к нему повесть хоть сколько-нибудь могла объяснить своим достоинством необходимость и смысл этого неожиданного появления с того света. Г-н Ушаков приобрел себе известность повестью в двух томиках – «Киргиз-кайсак», изданною, кажется, в 1831 году; а до тех пор он был известен только в литературном кругу своими статьями о театре, исполненными грубой журнальной брани и плоскими остротами на ложнославянском языке{35}. «Киргиз-кайсака» теперь нет никакой возможности перечесть; но это происходит не столько оттого, чтоб в этом произведении вовсе не было таланта и хотя относительного достоинства, сколько оттого, что наша литература и вкус нашей публики с тех пор быстро подвинулись вперед. Мы уже не раз имели случай замечать, что до Гоголя нашим романистам и нувеллистам было легко быть талантливыми, по крайней мере в тысячу раз легче, нежели теперь. Но как бы то ни было, все же успех, разумеется, неподготовленный и неподкупленный, всегда есть признак силы в известной степени, следовательно, всегда – заслуга и право на внимание; а «Киргиз-кайсак» пользовался непродолжительным, но тем не менее замечательным успехом, так что, если б вышло второе издание этой повести с портретом автора, портрет был бы там очень кстати. Другие сочинения г. Ушакова доказали, что у него достало дарования только на одну эту повесть: последовавшие за нею сочинения были одно другого бесталаннее, одно другого уродливее. Помещенная в третьем томе «Ста русских литераторов» повесть его «Хамово отродье» (картина русского быта) – верх бездарности, дурного тона, скуки, вялости, растянутости и пустословия. Беспутно воспитанного дворянчика обворовывает его лакей, которого в детстве нещадно пороли за шалости барина. Дворянин промотался и его имение перешло в руки его же холопа, который сумел сделаться чиновником. Сын этого холопа, непричастный грехам отца и воспитанный гораздо лучше, нежели был воспитан барин его отца, во время нашествия Наполеона переходит в службу неприятеля, сражается против русских и потом зло погибает, как подобает изменнику, – погибает не от презрения общественного, а от ран… И между тем он был, по словам сочинителя, не зол, не развратен, не порочен: вся беда вышла, во-первых, от холопской крови, во-вторых, оттого, что строгому правосудию морального сочинителя необходимо было погибелью сына наказать преступления отца. Между тем сын промотавшегося дворянчика выиграл в Париже в рулетку более полутораста тысяч франков, в оправдание мудрого правила, что добродетель награждается, – дал себе клятву больше никогда не играть и быть добродетельным; потом выкупил наследие своих благородных предков и зажил на славу. Все это рассказано нескладно и растянуто; рассказ начинается с яиц Леды{36} и тянется с отступлениями, рассуждениями, эпизодами, так что сам сочинитель не раз обращается к своим читателям с советом – не читать, если скучно. По своему обыкновению, он не утерпел, чтоб не вставить в рассказ плохого диспута о классицизме и романтизме, о которых он хлопотал во все время своего сочинительства, не понимая их…
Но позвольте дух перевести! Мы прошли через восемь песчаных степей, на которых ни деревца, ни былинки, ни капельки росы… Есть от чего устать!.. Чтоб вознаградить нас за это, г. Смирдин даром дает, или, лучше сказать, придает нам статью своего исключительного автора, Барона Брамбеуса. В самом деле, имя Барона Брамбеуса неразлучно с именем г. Смирдина; оба они поднялись в одно время и в одно же время оба потерпели расстройство – один в своих финансовых обстоятельствах, другой – со стороны своего таланта и своей авторской знаменитости… Увы! Барон и в самом деле уже не тот, что был, может быть, оттого, что теперь не та уже стала русская публика… Оно, если угодно, все еще потешно, но уж местами только, а в общем скучно и плоско. Повесть называется «Микерия, Нильская лилия» (перевод древнего египетского папируса, найденного на груди одной мумии в фивских катакомбах). Содержание ее – известный египетский анекдот о сыне архитектора, который обокрал сокровищницу фараона, выручил труп своего брата, обманул дочь царя и потом, за свои мошенничества, женился на ней. Мимоходом излагается египетская мудрость, танцующая у Барона Брамбеуса польку. В августовской книжке «Библиотеки для чтения» вот что, между прочим, сказано о статье Барона: «Теперь вопрос состоит в том, как мудрым читателям понравится эта метода превращать в шутки самые темные задачи древней космогонии, самые спорные статьи таинственной науки жрецов о бытиях (entia) и числах». Мы думаем, что эта шутовская метода не понравится мудрым читателям. Наука с погремушкою в руке и шутовским колпаком на голове – не наука, а гаерство. Всему есть свое место и свое время: на бале веселятся и пляшут, на похоронах плачут или хранят важное молчание; перемените наоборот – и выйдет отвратительно. Кто наделен даром остроумия, тот может найти широкий разгул своему таланту и не паясничая во храме науки. Далее в «Библиотеке для чтения» сказано: «В глазах некоторых важных мужей, почитающих скуку драгоценнейшим достоянием учености, это может составить ужасное преступление; но Барона Брамбеуса давно уже обвиняют в том, что охотник сочинять шутку: так уж один лишний грех – для него не в счет»{37}. Плохое оправдание! Кто хочет знать, для того наука не скучна и без фиглярства, и он требует только, чтоб ее предметы излагались сколько можно яснее; для кого же наука скучна без пляски вприсядку, тот не достоин знать что-нибудь… Впрочем, потешная сказка Барона Брамбеуса местами действительно потешна, а после несравненных и невероятных произведений гг. Бенедиктова, Греча, Мятлева, Хмельницкого, Ободовского, Бегичева, Маркова, Ушакова она перелистывается не без удовольствия, особенно с пропусками. Рисунки явно сочинены Бароном, хотя в них и сохранен тип и стиль египетских иероглифов.
Итак, вот мы пересмотрели два первые тома и внимательно рассмотрели третий том «Ста русских литераторов»: что же нашли мы в них? – В первом томе два портрета совершенно лишние и неуместные (гг. Зотова и Свиньина); при двух портретах (г. Александрова и Марлинского) плохие статьи. Во втором: три портрета (гг. Каменского, Веревкина и Масальского) совершенно излишние и неуместные; четыре портрета (гг. Булгарина, Загоскина, Панаева, Шишкова) запоздалые, а, за исключением Крылова, девять портретов с плохими статьями. В третьем: четыре портрета (гг. Ободовского, Мятлева, Бегичева и Маркова) лишние и неуместные; три портрета (гг. Греча, Хмельницкого и Ушакова) запоздалые; при восьми портретах плохие статьи. Итого: из тридцати портретов девять лишних и неуместных, восемь запоздалых; из тридцати с лишком статей – с лишком девятнадцать плохих (считая за одну статью пять стихотворений г. Бенедиктова и за одну же статью десять стихотворений г. Мятлева). Хороший итог!.. Жалуйтесь после этого на холодность и равнодушие русской публики к поддержанию цветущего состояния русской литературы! Объясняйте, отчего пала наша книжная торговля!