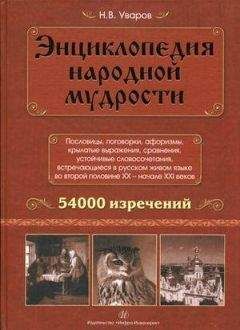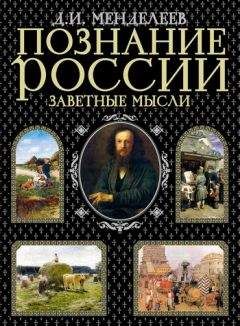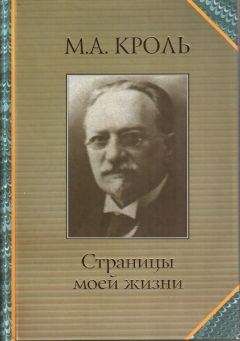Георгий Плеханов - Народники-беллетристы
Итак, ввести коллективную обработку полей невозможно; поднять Ивана Ермолаевича против начальства немыслимо; мало того, даже пытаться изменить что-либо в его обиходе — значит являть из себя легкомысленного "колебателя основ", которого Иван Ермолаевич должен "представить к начальству". Вот к каким выводам; приводит народника "удивительная стройность" народного миросозерцания! Что же делать? Обучать грамоте народ? Но, во-первых, отдавая школы в ведение духовенства, "начальство" в свою очередь весьма не двусмысленно говорит народнику: "не суйся!", а, во-вторых, и сам Иван Ермолаевич плохо понимает пользу грамоты, пока остается в сфере своих земледельческих идеалов. Находясь под влиянием этих идеалов, сам автор никак не мог понять, зачем нужно было бы учить грамоте сына Ивана Ермолаевича — Мишутку: "И, главное, решительно не мог представить себе того, чему бы именно нужно было его учить. Поэтому, в разговорах об учении, мы с Иваном. Ермолаевичем только твердили одно: надо… Надо, надо, а сущность и цели Ивану Ермолаевичу неизвестны, непонятны, а я уж ленюсь разъяснить их, да и призабыл, чем именно это надо следует оправдать".
Иван Ермолаевич все-таки отдает сына в ученье, но поступает так единственно потому, что смутно чувствует приближение новых экономических порядков. "Ему начинает казаться, что где-то в отдалении что-то зарождается "недоброе, трудное, с чем надо справляться умеючи…" И в такие-то минуты он говорит: "Нет, надо Мишутку обучить грамоте — надо!". Выходит, стало быть, что пока народный быт хоть немного соответствует народническим "идеалам", до тех пор в грамоте не видится и надобности, а когда сознается польза учения, тогда старые народные "устои" оказываются близкими к разрушению, в деревне является четвертое сословие, и хозяйственному мужику, Ивану Ермолаевичу, остается "много-много десять лет" жить на свете. Какая злая насмешка истории! И до какой степени прав наш автор, когда, подводя итог всем противоречиям положения интеллигентного человека в деревне, он восклицает: "И выходит, поэтому, для всякого, что-нибудь думающего о народе (т. е. думающего о нем с народнической точки зрения) человека, задача поистине неразрешимая: цивилизация (т. е. капитализм) идет, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествий, но еще, как уверяют тебя и как доказывает сам Иван Ермолаевич, не должен, не имеешь ни права, ни резона соваться, ввиду того, что идеалы земледельческие прекрасны и совершенны. Итак — остановить шествия не можешь и соваться не должен! " Народничество, как литературное течение, стремящееся к исследованию и правильному истолкованию народной жизни — совсем не то, что народничество, как социальное учение, указывающее путь "ко всеобщему благополучию". Первое не только совершенно отлично от другого, но оно может, как мы видим, придти к прямому противоречию с ним.
Самый наблюдательный, самый умный, самый талантливый из всех народников-беллетристов, Гл. Успенский, взявшись указать нам "совершенно определенные", "реальные формы народного дела", совсем незаметно для самого себя, пришел к тому, что подписал смертный приговор народничеству и всем "программам" и планам практической деятельности, хоть отчасти с ним связанным. Но если это так, то мы решительно не можем понять, каким образом постигнутая им "стройность" крестьянской жизни могла иметь такое успокоительное влияние на него. Теоретическая ясность его взгляда на народ была куплена ценою безотрадного практического вывода: "не суйся!".
Но в стремлении решить вопрос "что делать?" и заключался весь смысл существования народнического учения. Несостоятельность по отношению к этому вопросу означает полное его банкротство, и мы можем сказать, что художественные достоинства произведений наших народников-беллетристов принесены были в жертву ложному общественному учению. Весною 1886 г. в "Историческом Вестнике" было напечатано письмо покойного редактора "Руси", Аксакова, писанное им за несколько лет до смерти одному из своих молодых друзей. В этом письме последний из могикан славянофильского учения делает строгую оценку народничества. Он смеется над проектами Гл. Успенского относительно артельной обработки полей и земледельческих ассоциаций, видя в них несбыточную утопию. По его мнению, народничество есть не более, как искаженное, непоследовательное славянофильство. Он утверждает, что народники присвоили себе все основы славянофильства, отбросив все вытекающие из них выводы относительно царя и религии. Общий смысл его письма таков: тот, кто восхищается старинными устоями нашей крестьянской жизни, необходимо должен примириться и с царем и с Богом. Народники не питают, по его словам, достаточного уважения ни к царю, ни к Богу, но он думает, что рано или поздно жизнь научит их уму-разуму.
Мы видим теперь, что такому же точно, аксаковскому, уму-разуму могли бы научить и сочинения Гл. Успенского: самодержавие, православие и народность — вот тот девиз, которого должны были бы держаться все, восхищающиеся "стройностью" миросозерцания Ивана Ермолаевича.
Мы говорим "могли бы" и "должны были бы" потому, что в действительности наш разночинец никогда не в состоянии будет заслужить одобрение последователя "Руси". Он слишком образован для того, чтобы верить в Бога, и в то же время слишком искренен для того, чтобы лицемерно преклоняться перед ним, считал религию уздою для черни. Наш разночинец, придя в сердечное умиление, может воскликнуть: "Народ — это тот человек, который по изгнании из рая (?!) непокорного собрата предпочел остаться там, сказав себе: ладно и так", — как восклицает Пигасов у Гл. Успенского; но тем не менее он прекрасно понимает, что на самом деле народную жизнь скорее можно сравнить с адом. Чувствует он, что и его собственное положение также совершенно невыносимо, а потому у него и не может быть мира с абсолютизмом. Ему нельзя миновать борьбы или, по крайней мере, мирной оппозиции. Он может в изнеможении опустить руки, как опускают их легальные народники, может подчиниться силе, но никогда искренно не примирится да с существующим порядком. Он всегда будет стремиться к мирному или революционному переустройству наших общественных отношений. Но пока он будет искать себе поддержки только между Иванами Ермолаевичами, до тех пор у него не будет никакой поддержки.
Идеализированный им "народ" (т. е. "хозяйственный" крестьянин) останется глух к его призывам. Вот почему, продолжая держаться народнической точки зрения, он всегда будет находиться в самом ложном и противоречивом положении. Он будет сочинять неокладные общественные теории, открывать давно уже открытые Америки, не имея действительной связи с жизнью, не чувствуя никакой прочной почвы поя ногами. Задача плодотворной общественной деятельности останется для него неразрешимой задачей.
Унылое настроение, давно уже заметное в среде наших народников из нашей легальной народнической литературе, как нельзя лучше подтверждает сказанное. У наших легальных "новых людей" выработался даже особый язык, прекрасно характеризующий всю безнадежность их положения. Несколько лет тому назад они вели со славянофилами ожесточенные споры о том, как следует плакать; "с народом", или "о народе". И действительно, им не остается ничего более, как плакать, — плакать о том, что правительство угнетает и разоряет народ, плакать о нашествии на нас "цивилизации" и о том, что Ивану Ермолаевичу остается "много-много десять лет" жизни; наконец, горше и больше всего им приходится оплакивать свое собственное безнадежное положение.
Мы уже видели: крестьянская Азия упорно, с энергией, со страстью, "сверкая глазами", отрицает "интеллигентную" Европу.
Прочна суровая среда
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей!
Впрочем, что же мы говорим о безвыходном положении нашего народника! Выходы есть, их указывают сами народнические писатели. По некоторым сочинениям г. Златовратского можно думать, что он видит этот выход в известной теории графа Л. Толстого. Оно, конечно, почему бы нашим народникам и не усвоить этого учении? Но странным и неожиданным образом оно приводит к тому выводу, что "мужику земли нужно ровно три аршина, чтобы было где его похоронить", а такой выход есть прямое отрицание народничества. Гл. Успенский видит выход в святой и безмятежной жизни "трудами рук своих". В "Дворянском гнезде" Лаврецкий говорит Паншину, что будет "пахать землю и стараться как можно лучше ее вспахать". То же самое советует Гл. Успенский и нашим "новым людям". Но выход ли это, и если — выход, то для кого? Во всяком случае не для "народа", который и теперь пашет землю и старается как можно лучше ее вспахать, насколько позволяют, конечно, его первобытные земледельческие орудия. Через этот узкий выход ни в каком случае не пройдет к своему освобождению русский крестьянин. Через него могут протискаться разве только несколько человек из "скучающей публики", да и те наверное не пришли бы через него ни к какой свободе, если бы даже и не были немедленно изловлены урядником и водворены на прежнее место жительства. А при современных порядках дело легко может принять этот последний оборот. Цитированные уже "Письма из деревни" т. Энгельгардта способны разочаровать на этот счет самого крайнего оптимиста.