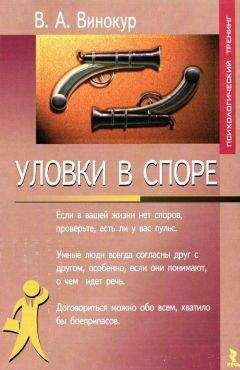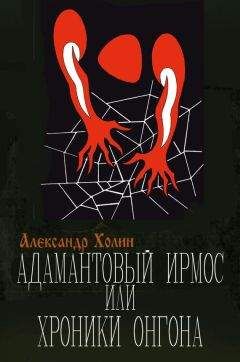Александр Свободин - Зримое время
О Раневской — Ургант некоторые говорили: помилуйте, какая же она аристократка? У актрисы при всем ее таланте нет данных для этого! Слушая это, я невольно вспоминал из «Евгения Онегина»:
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (Не могу…
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести:
Оно у нас покамест ново…)
Одним словом, обращаясь к Раневской — Ургант, некоторые критики находили в ней простоватость, недостаточное благородство жеста. Может быть, может быть… Но стоит ли так уж заботиться об этнографической подлинности наших сценических дворян на пятьдесят восьмом году революции! И когда приходится слышать в зрительном зале этакое: ну, какой же он граф! — кажется, что сама история улыбается нам в эту минуту. Аристократы ушли из жизни. Осталась сценическая традиция их изображения. Она слабеет и видоизменяется с каждым актерским поколением, которое всегда плоть от плоти своих современников. И, конечно же, диалектика здесь в том, что тот, кто на сцене кажется нам «настоящим» бароном, нередко столь же далек от подлинника, как и тот, кто кажется «ненастоящим». Великий русский актер Качалов был достоверным в горьковском «Дне» не потому, что ходил в ночлежку изучать опустившегося барона (это ведь для внешней характерности только!), а потому, что он был человеком своего времени. Никто уж не сыграет столь достоверно настоящего барона, хотя вполне возможно, что роль в горьковской пьесе кто-то сыграет и не хуже. Кстати сказать, отметку за достоверность выставляли Качалову не мы, родившиеся после революции, а те, кого он изображал. Так же, как купцы, которых изображал на сцене Малого театра Пров Садовский, слезами и подношениями свидетельствовали точность его портретов.
Сегодняшний театр, представляющий людей ушедших эпох, имеет сложную систему критериев верности. Они находятся в сфере историко-философского осмысления прошлого и диалектического соотношения его с нынешним днем. Этнографически материальны признаки, если можно так сказать, не решающие среди этих критериев.
Куда серьезнее отметить, сколько в актрисе живого чеховского, трогающего нас. При своем появлении ее Раневская становится центром спектакля, ее душевная жизнь, чуть виноватая улыбка собирают на себе внимание зрительного зала. Даже когда ее нет на сцене…
Происходит это так. Случается — она в другой комнате, на втором плане. Мы видим ее в проходе между стеснившимися стенами, у стола, раскладывающей пасьянс. Мягкий свет вечерней лампы освещает ее лицо. А на сцене Аня и Варя говорят свое. В другой раз она поет «Утро туманное…», а на сцене Шарлотта рассказывает о себе ничего не слышащему Фирсу, а Фирс вспоминает юность… Как убили на его глазах человека, как сидел два года в остроге (в спектакле восстановлен этот рассказ из первого варианта пьесы). А Любовь Андреевна все поет: «…утро седое…» Поет так долго, что это уже не романс только, а нечто большее, имеющее отношение к жизни двух случайно встретившихся одиноких, за брошенных людей.
Порой мы видим Раневскую в кресле, в профиль к нам, почти спиной. Поза ее — само ожидание: что-то будет… что-то будет… Она вслушивается в себя, живет своей внутренней музыкой. Недосказанности, мимолетности, «проходные эпизоды», как параллельный монтаж в кино, когда настроение создается необязательностью соседнего кадра, в котором где-то рядом с главным действием просто течет жизнь в немудреных своих обыденных формах.
А первым появился Лопахин. Если помните, спящим в кресле. Он строен, прям, напорист, в движениях груб, одет от хорошего портного. Усы, борода, шевелюра университетского оратора, интеллигентного народника. Лицо тонкое, нервное. Лопахинская самоаттестация — «свиное рыло» скорее кокетство Ермолая Алексеевича, а его хамоватость выглядит больше демонстрацией или следствием избыточной энергии, нежели плодом социального происхождения.
Лопахин, каким его играет Ю. Родионов, взволнован предстоящей встречей, но, кажется, больше оттого, что сейчас осуществится возможность изложить, наконец, план спасения имения, который он обдумывал все эти дни. Он мыслит житейски, он практик — ведь не для прекрасных же воспоминаний возвращается сюда Любовь Андреевна. Назначены торги.
А как же с прекрасными воспоминаниями самого Лопахина, которому так хотелось сказать кумиру своей юности «что-нибудь очень приятное и веселое»?
…Прелестная, молоденькая, худенькая Любовь Андреевна на крыльце. Предмет влюбленности маленького «мужичка», завороженного ее «удивительными трогательными глазами». Какая она теперь? Узнает ли его? Ведь вот-вот она войдет. Дуняша рядом лепечет: «Я сейчас в обморок упаду… Ах, упаду!» Лопахин не упадет, но сердце его бьется…
В герое Родионова ничего этого нет, лирика ему мало свойственна, хотя в размашистости натуры ему и не откажешь. Вот только размашистость эта, как и его пьяный перепляс после покупки имения, напоминают кураж Егора Булычева. А Лопахин не Егор Булычев с его определенностью суждений, он — другое, так сказать представитель первоначального накопления, выросший среди тонких запахов дворянского увядания. Артист не попадает тут в авторскую интонацию. Разве что когда Петя Трофимов скажет о его тонкой душе, Лопахин на секунду расчувствуется и прижмет «вечного студента» к груди.
Он сосредоточен на одной идее: «Время не ждет!» Времени у него нет, он в Харьков едет. Кажется, постоянно в Харьков едет. Отчетливо выговаривая, громким, резким голосом герой Родионова излагает свой план: «Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги…» И так же решительно и жестко: «…но вы не беспокойтесь, моя дорогая, и спите себе спокойно, выход есть… Вот мой проект». И «моя дорогая», и «спите себе спокойно» в этой лопахинской речи звучат сухо, вроде обращения «милостивый государь».
А ведь Ермолай Алексеевич любит ее «больше, чем родную», уже не по воспоминаниям. Сейчас увидел и любит, И кто знает, почему он так и не сделал предложения Варе. А в самом деле, почему? А потому, что не сделал и все тут — такова жизнь! Чеховский Лопахин естественно уходит от ответа. При всей решительности своих действий он мямля, ему тоска свойственна. От родионовского Лопахина ждешь ответа однозначного. Так почему же не женился? Постеснялся сделать предложение. Другого ответа актер как будто бы не дает. «Принцип неопределенности» — художественное открытие чеховской драматургии в этом Лопахине отсутствует. Он слишком определенен.
Но с какой же несчастной минуты стало ясным, что вишневый сад будет продан и его не спасти. И так ли уж несчастна эта минута?
М. Туровская в статье о Чехове когда-то заметила, что при несмолкаемом кличе дочерей полковника Прозорова: «В Москву! В Москву!» — они никуда не уедут. Не могут. Им не надо. Вокзал с его прозаической билетной кассой для них — другая планета. В имении Раневской в эти четыре месяца, что прожила она в нем, не только ничего не делают для спасения вишневого сада, но, напротив того, кажется делают все, чтобы он был продан. Это обстоятельство наглядно в спектакле, но наглядно и то, что не в саде ключ происходящего и далеко не все поэтические мотивы связаны с ним у его владелицы. Если Любовь Андреевна говорит о нем как о единственной достопримечательности губернии, то это, скорее, с детства усвоенное и ставшее стереотипом убеждение, нежели живое чувство.
…Минута эта наступает в спектакле пушкинцев рано. Тотчас же после того, как Лопахин предлагает свой план. Даже в то самое время, как он его предлагает. «Решайтесь же! — восклицает Ермолай Алексеевич. — Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет» Но его перебивает глухой Фирс, его мотив: «В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили…» И все более уверенно и торжествующе, как об основе жизни: «…и бывало… И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков… И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая… Способ тогда знали…» Фирс — Толубеев произносит это как пророк забытые скрижали. Грудным певучим голосом, вздохнув, Раневская говорит: — А где же теперь этот способ?
Не Фирсу говорит, даже не Лопахину — себе!
Н. Ургант делает здесь чистую паузу. Любовь Андреевна первый раз по возвращении уходит в себя, в свои воспоминания, на глазах ее слезы, перед ее внутренним взором тот «способ жить, та жизнь, что была душистой, сочной, полной и не надо было выслушивать пошлых планов». Потерян способ жить. По сравнению с этой потерей все мелко, не реально. Что там говорит Лопахин? До Раневской доносится откуда-то извне: «До сих пор в деревне были только господа и мужики…» Она досадливо морщится, ах, он все свое!
Способ жить потерян. С высоты этого горестного открытия остальное для Раневской уже не существенно. Начинается ее безмолвное движение с ускоряющимся ходом вещей. Таков первый перелом в ее душе и первый контрапункт спектакля.