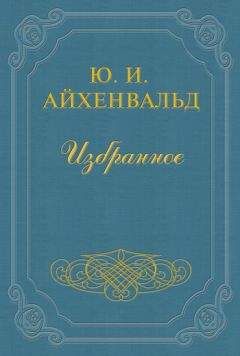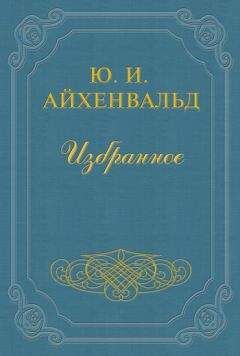Юлий Айхенвальд - Лев Толстой
Если дядя Брошка – природа в ее дикости, то казачка Марьяна, та «девка, которую Бог сделал», не красивая, а именно красавица, олицетворяет собою все прекрасное в естестве, и как она, эта девушка в розовой рубахе, стихийна, так и Оленин полюбил ее точно не сам, не за себя, «а через него любит ее какая-то стихийная сила; весь мир Божий, вся природа вдавливает любовь эту в его душу и говорит: люби». «Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего счастливого Божьего мира». У подножия гор с вечными неприступными снегами увидел он эту женщину, вечную Еву, «в той первобытной красоте, с которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца». Мы далеко ушли от первого, мы так забыли его – мы, поздние, бросившие свою родину, не первые, последующие; а вот Оленину предстало первое, начальное, первозданное, – он взглянул прямо в глаза природе, в черные глаза Марьяне. И она, эта жизнеобильная девушка, тоже почувствовала к нему любовь. Но при всем напряжении Оленина сбросить с себя путы городской искусственности и, так сказать, объерошиться, ему это не удалось, и, очевидно, в тайниках его души таилось отравленное зерно культуры, и чуткая женщина, любимое дитя и первеница природы, Марьяна заметила это и презрела его. Горы его не переродили вполне, и она предчувствовала его тоску по Москве, по этой чужбине, затмившей родину-природу. И после нравственного поединка между казаком Лукашкой и Олениным победу одержал в ее сердце первый, более ей понятный и родной, связанный с нею общей бессознательностью, не опростившийся, а простой, – одержал победу особенно тогда, когда его пристрелили чеченцы, и жалость и «красивая печаль» овладели девушкой; и Марьяна отвернулась от Оленина, и последние слова, которые он услышал от нее, были: уйди, постылый. «И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться». Он уехал из станицы. Дядя Ерошка на прощанье расцеловал его в «мурло», но Марьяна равнодушно взглянула на увозившую его тройку; и когда коляска тронулась и Оленин в последний раз оглянулся – на кого? на станицу? на природу? – «дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него». Замечательно, что вообще лицо Марьяны Толстой часто рисует как равнодушное (или строгое); и Ерошка тоже живет и чувствует не цепко – во всех этих людях природы есть какое-то бесстрастие, которое они переняли именно у нее: ведь она спокойно, после солнечных ласк своих, непосредственно за ними, может нахмуриться, неожиданно повеять холодом; природа не берет на себя никаких обязательств, величественная в своем равнодушии; такова и Марьяна. Итак, природа не приняла, – уйди, постылый. Оленин рад был бы в ее рай, но грехи культуры не пустили. Мало, значит, пожелать вернуться домой – надо еще преодолеть замкнутость природы и свою давнишнюю отчужденность от нее. И непрощеный сын будет продолжать свои печальные скитания. Однажды совершенная измена не может быть заглажена.
Таким образом, истинный смысл призыва назад, к природе, состоит не в том, чтобы вернуться в среду первобытных людей и внешне разделить с ними их простую жизнь, «упряжки» их дня, а в том, чтобы природа, как и царство Божье, была не вне, а внутри нас, чтобы естественно было сердце, непосредственны и наивны были самые помыслы. Именно в связи с этим у Толстого так часты мотивы обновления, возрождения, страстное искание совершенства: человек ищет самого себя, жадно хочет из-под навеянных слоев искусственного извлечь свое подлинное, свое природное «я». Сам Толстой, благодаря художественности своей натуры (художественность – это природа, сконцентрировавшая себя в одной личности, вошедшая в индивидуальную душу; в художнике природа находит своего выразителя, для него по преимуществу она и существует), – сам Толстой уже в юные годы испытывал это свое, никогда потом не покидавшее его, отожествление и слияние с природой: «и все я был один, и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собою все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всею необъятною могучею силой любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».
Да, природа и он – одно и то же, но вот, по отношению к остальным людям, оказывается, что мысль неминуемо с природой разлучает. Осознать природу уже значит ее отвергнуть. Поднимаясь над нею в своей рефлексии, делая ее предметом своей думы, человек этим самым расстается с нею, недумающей. Для счастья надо было бы не понимать и надо было бы все в космосе оставить так, как мы нашли. Но мысль неизбежна, но культура – закон природы, но сознания не избыть: не выйти из этого заколдованного круга. Мы вкусили от древа познания, от древа сознания, и с тех пор, одною гранью своею находясь в слепой стихии, которая нас порабощает, а другою пребывая на освещенной высоте разумности, мы навсегда потеряли спокойную цельность природного бытия. Человечество, как сирота вселенной, бьется о нее своей беспомощной мыслью. Оно постигло, что природа рассчитывает на культуру, и культуру дало, но этим и завязало тягостный узел трагической антиномии. С первой неизбежно загоревшейся искоркой сознания для нас потемнело непосредственное пламя самой стихии. И вот наш, прометеевский, огонь горит, но, для Толстого, как тускло это искусственное, вторичное солнце и как из-за него только сгущается окружающий мрак! Сознательность, дар Прометея, не высшее для Толстого; немудрому Алеше Горшку не давалась грамота, но больше всех грамотных мира познал он смысл жизни, и когда на слишком заслуженный вечный отдых улеглись его наболевшие, нывшие, натруженные ноги, когда он «удивился чему-то, потянулся и помер», тогда его удивление было оценено выше, чем грамотность и культура, чем «удивление» Аристотеля, все догадки умных и ученых…
Человек, невольно разорвав исконный союз свой с природой и правдой и отрекшись от стихии, оскорбляет этим землю, изменяет матери. А нет в мире ничего величественнее ее, и если так часто и в таком благодатном сиянии выступает у Толстого человеческая мать, то это лишь потому, что она – представительница, носительница природы, воплощение ее рождающей силы. Мать – самое несомненное, наиболее естественное существо на свете. Кто за природу, тот за мать. Так было и с Руссо. Именно этот натурализм и породил у Толстого всю ту интимность, и нежность, и семейственность, которую он больше всех писателей внес в русскую литературу. Он чувствует женщину. В элегическом «Семейном счастье», одной из менее заметных, но прекрасных жемчужин своего писательского венца, он говорит от ее имени, ее тоном, ее устами и словами – и какая девушка и жена не узнает в этом зеркале себя и своего сердца? Он входит во все возрасты женщины, в ее заботы, и боли, и упования – он, мужчина, стоящий на высоте гениальности, он, деятель и писатель войны; и Долли, купающая своих детей, и Кити, кормящая своего ребенка, – все это внимание великого к малому – к малому ли? – не только художественная, но и нравственная заслуга. Раздавшиеся потом больные звуки «Крейцеровой сонаты» не могут заглушить той симфонии материнства, какую создал Толстой, друг и провидец женщины, ее заступник и поэт. Он со многими семьями породнил нас, особенно с семьей Ростовых, и грядущие русские поколения будут, подобно нам, всей тревогой и трепетом сердца вникать в радости и печали этого степенного старого дома Ростовых, который воплощает собою устойчивый быт и в котором смена людей, волны старости и юности, рождения и смерти знаменуют собою нечто типичное и общечеловеческое.
Так чуден и символичен образ матери, покойной «мамы», реющий и в «Семейном счастьи» и особенно в «Детстве и отрочестве»… Там – предел трогательного. Рассказывает мальчику старая любящая няня Наталья Саввишна (образ дивный в своей простоте!), как умирала его мать… «Только» откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей…» После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает! Я так думаю, что это она вас заочно благословила; да, видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я вспомнить не могу: «Матерь Божия, не оставь их!»
Так мать передает Матери своих детей – великое поручение смертного часа! История не расскажет, что стало с прочими детьми этой женщины; но одного ее сына она уже облекла бессмертным именем и сохранила для вечности. И мы знаем наверное: Мать послушалась матери и не оставила, и сберегла, и взлелеяла его, и подарила ему не только гений и славу, но и, в угождение своей богомолице, сделала его поэтом святого материнства, писателем-сыном. И если где-нибудь живет и витает дух той, которая дала ему его долгую и благословенную жизнь, то должна она радоваться высокой и гордой радостью, ибо себя, свою душу, свое влияние видит она в творениях своего великого сына – великого и любящего, к своей и ко всякой матери благоговейного.