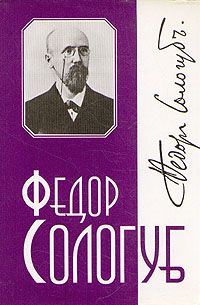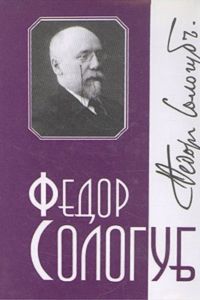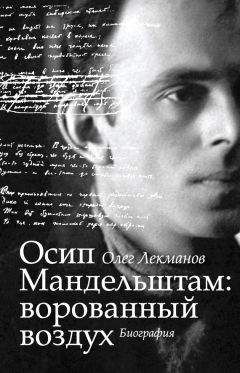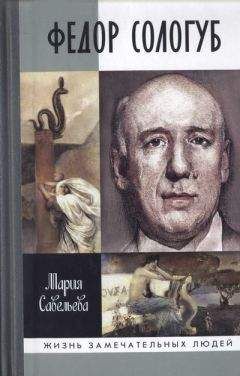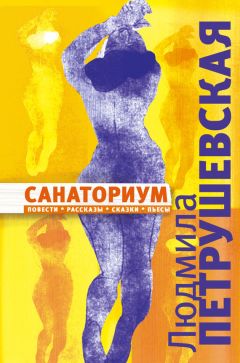Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух
Я убежден и в том, что гордая, одинокая, независимая личность набоковского героя всегда послужит коррективом к излишне поспешным попыткам писателей отказаться отличной ответственности, записавшись на очередную организованную экскурсию в поисках коллективного «парадиза», что сдержанное набоковское «я», отчужденное от соборного сознания «мы» в русском реалистическом романе и от «мы» «железных батальонов рабочих», является примером воспитания собственного отношения к миру, умения трезво оценить самого себя и полагаться на собственные «слабые силы».
Набоковский роман, как я его понимаю, — это прежде всего роман воспитания «я», то есть вариант романа воспитания, однако это не значит, что нужно следовать во всем по пути этого воспитания.
И.Бродский сравнил Набокова с канатоходцем, Платонова — с покорителем Эвереста. В этом есть доля правды. Если литература — посредством слова — отражает подлинное состояние мира, то Набоков — это защитная реакция на состояние мира, в то время как Платонов в своих романах выразил онтологическое неблагополучие, отразившееся в коллективном бессознательном, и, предоставив право голоса бессознательному «мы», он дотронулся до дна проблемы.
«Мы» (вынесенное в название романа) у Замятина, «мы» покорителей будущего у Олеши в «Зависти», «мы» М.Булгакова — это, в сущности, «они», рассмотренные, исследованные со стороны критически мыслящих «я».
В той же самой традиции рассматривается «мы» у Набокова. Лишь с тем серьезным отличием, что его «я» не подвластно никаким искушениям, идущим от «мы», не испытывает к «мы» ни малейшей зависти (как у Олеши), ни малейшего желания определить отношения и по возможности найти «модус вивенди» (как у М.Булгакова). Сила же платоновского словотворчества состояла в том, что он нашел «безъязыкому» «мы» тот единственно возможный (и, вместе с тем, невозможный) язык, на котором оно, это «мы», не мычало, а самовыразилось. По степени сложности словесной задачи Платонов несопоставим с другими писателями, сторонними исследователями «мы».
Набоковская проза во многом опиралась на опыт символистскои прозы и прежде всего на опыт автора романа «Петербург» (одного из четырех главных произведений XX в., по определению Набокова, наряду с произведениями Джойса, Кафки и Пруста). Но символистский роман, особенно в его русском варианте, был романом «вертикального» поиска истины, то есть романом метафизическим. С другой стороны, он был романом индивидуалистическим, ибо жаждущее истины «я» искало «вертикальную» истину в одиночку, отвергая обыденную мораль «мы» и тем самым отвергая предшествующую традицию, когда «я» тосковало по соединению с «мы» и, если такого соединения не находило, было готово причислить себя к «лишним людям». Вообще авантюры повествовательного «я» в творчестве русских писателей XIX — начала XX века еще далеко не изученная тема. Можно только заметить, что после Достоевского и Толстого возникло два противоположных направления: одно тяготело к смыканию с «мы» (линия Горького и далее социалистического реализма в советской литературе), другое отражало разочарование по поводу соединения с «мы» (у А.Белого этот отрыв «я» от «мы» катастрофичен, и никакая теософия его не снимает).
В силу своего метафизического «сомнения» Набоков закрыл верхний этаж символистской прозы, то есть закрыл для своего «я» выходы не только в горизонтальную плоскость «мы», но и в вертикальную плоскость слияния в некое мистическое «мы» с мировой душой. Таким образом, набоковское «я» (и плеяда его романных двойников) оказалось в полном одиночестве, предельной изоляции, и, удержав в сознании символистскую идею неподлинности «здешнего» мира, условности его декораций, оно — волей-неволей, — не имея доступа в верхние этажи, должно было театрализовать этот мир декораций (в театрализации содержится момент преодоления и освобождения от неподлинного мира), причем «другой» в мире Набокова (кроме исключений, о которых ниже) также оказывается видимостью, призраком, наконец, вещью (тем самым подтверждается ортеговская концепция). Подобное абсолютно одинокое «я» становится невольным ницшеанцем, в тени близкой по времени ницшеанской традиции как непроизвольного ориентира, и тогда вырабатывается особый комплекс морали, в чем-то оппозиционный по отношению к предшествующей, христианской этике. Впрочем, это «ницшеанство» в известной степени ограничено не только воспитанием (вспомним комплекс ставрогинской порядочности, хотя это сравнение хромает из-за отсутствия в набоковском «я» воли к «преступлению»: в романе «Отчаяние» скорее проявлен интерес к игре в «идеальное» преступление), но и здравым смыслом, чувством юмора и самоиронией, которая, правда, у Набокова не всегда обнаруживается, что ослабляет самоанализ и позволяет оставаться в тени иным чертам его «я», которое считает, что знает себя досконально и уж во всяком случае лучше других.
Именно на этом основывается перманентная критика Набоковым фрейдизма, ибо представить себе, чтобы «венская делегация» лучше разбиралась в набоковском «я», чем он сам, невозможно, это выглядит для него оскорблением, отсюда и раздражительная реакция, выраженная как в предисловиях к романам, так и в самих текстах.
Стало быть, основным содержанием или, скажу иначе, онтологией набоковских романов являются авантюры «я» в призрачном мире декораций и поиски этим «я» такого состояния стабильности, которое дало бы ему возможность достойного продолжения существования.
Экзистенциальная устойчивость авторских намерений ведет к тому, что целый ряд романов писателя группируется в метароман, обладающий известной прафабулой, матрицируемой, репродуцируемой в каждом отдельном романе при необходимом разнообразии сюжетных ходов и романных развязок, предполагающих известную инвариантность решений одной и той же фабульной проблемы. Останавливаясь в этом эссе прежде всего на пяти довоенных набоковских романах, написанных по-русски, я отчасти упрощаю себе задачу и в то же время конкретизирую ее, ибо позднейшие англоязычные тексты писателя если и тяготеют, в силу экзистенциальной гравитации, к метароману, все-таки благодаря существованию в ином культурно-языковом контексте ведут себя более вольно и своенравно, хотя в глубине и остаются верными изначальной матрице.
Метароман Набокова как некое надроманное единство имеет в качестве своего формального предшественника в русской литературе, как это ни странно, метароманную структуру ненавистного Набокову Достоевского, ибо у Достоевского, начиная с «Преступления и наказания» и заканчивая «Братьями Карамазовыми», существует единая романная прафабула, порожденная проблемой соединения «я» с мировым смыслом.
Ключ к пониманию набоковского довоенного метаромана находится в «Других берегах» (русский текст которых датируется 1954 г.), где уже не вымышленный герой, а само автобиографическое «я» проходит через всю его фабулу, демонстрируя тем самым нерасторжимую связь между собой и «я» набоковских повествователей, и это как бы кладет предел размножению вымышленных двойников.
Несомненно, что опору авторского «я» на самое себя должно считать вынужденной мерой, обусловленной трезвым осознанием невозможности иного, более фундаментального выбора, жесткой ограниченностью своих метафизических способностей. В этом смысле Набоков предельно честен перед собой и читателем: он не вымышляет той реальности, которой не осязает, но пишет о том, что доступно его «земной природе», хотя такое положение — здесь есть, если хотите, ущербность бескрылости — его отнюдь не удовлетворяет.
«Я готов, — говорит автор „Других берегов“, — перед своей же земной природой, ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик (сравнение сильное! особенно для Набокова. — В.Е.). Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы (герой „Защиты Лужина“ попробует и этот выход. — В.Е.). Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхасы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах…»