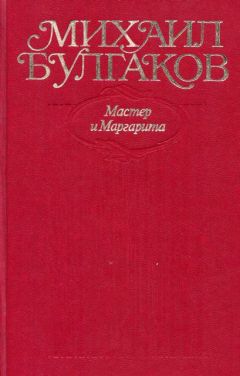Виссарион Белинский - Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова
Глубокое впечатление оставляет после себя «Бэла»: вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освещает солнце, омывает быстрый ручей, которого ропот, вместе с шелестом ветра в листах бузины и белой акации, говорит вам о чем-то таинственном и бесконечном, и над нею, в светлой вышине, летает и носится какое-то прекрасное видение, с бледными ланитами, с выражением укора и прощения в черных очах, с грустною улыбкою… Смерть черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась не страшным скелетом, по произволу автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примирения. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд, и вы с умилением повторяете простые и трогательные слова доброго Максима Максимыча: «Нет, она хорошо сделала, что умерла! ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно!..»
И с каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки! Она говорит и действует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа, читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его…
А Максим Максимыч, этот добрый простак, который и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он? Он, грубый солдат, любуется Бэлою, как прекрасным дитятею, любит ее, как милую дочь, – и за что? – спросите его, так он ответит вам: «Не то чтобы любил, а так – глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила так, как Бэла Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о нем перед смертью, хоть он и сам сознается, что это с его стороны не совсем справедливое требование… Останавливаться ли на этих чертах, столь полных бесконечностию? Нет, они говорят сами за себя; а те, для кого они немы, те не стоят, чтоб тратить с ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всех доступна: у большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная…
Характеры Азамата и Казбича – это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме!..
Обратите еще внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плавно текущего собственною силою, без помощи автора. Офицер, возвращающийся из Тифлиса в Россию, встречается в горах с другим офицером; одинокость дорожного положения дает одному право начать разговор с другим и так естественно доводит их до знакомства. Один предлагает чай с ромом – тот отказывается, говоря, что по одному случаю он зарекся пить. Очень естественно, что, сидя в дымной и гадкой сакле, путешественник заводит с товарищем разговор об обитателях сакли: товарищ этот – пожилой офицер, много лет проведший на Кавказе, естественно, очень охотно разговорился об этом предмете. Вопрос молодого офицера:* «А что, много с вами бывало приключений?» так же естествен, как и ответ пожилого: «Как не бывать! бывало…» Но это не приступ к повести, а только еще, как и должно, слабая надежда услышать повесть: автор не погоняет обстоятельств, как лошадей, но дает им самим развиваться. Он предлагает Максиму Максимычу чай с ромом: тот отказывается от рома, говоря, что зарекся пить. Вопрос: «почему?» молодого офицера так же не может быть сочтен натяжкою, как отклик человека, когда его зовут. Ответ Максима Максимыча, в котором он говорит о случае, заставившем его заречься пить вино, уже ожидается самим читателем. Случай этот чисто кавказский: офицеры пировали, как вдруг сделалась тревога. Но рассуждение Максима Максимыча, что иногда год живи – тревоги нет, «да как тут еще водка – пропадший человек», отнимает всякую надежду на повесть; как вдруг он обращается к черкесам, которые, если напьются бузы, так и начнут рубиться, и очень естественно вспоминает один случай. Он и расположен его рассказать, но как бы не хочет навязываться с рассказами. Молодой офицер, которого любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умеет умерить его приличием, с притворным равнодушием спрашивает: «Как же это случилось?» – Вот изволите видеть – и повесть ~ началась. Исходный пункт ее – страстное желание мальчика-черкеса иметь лихого коня. – и вы помните эту дивную сцену из драмы между Азаматом и Казбичем. Печорин – человек решительный, алчущий тревог и бурь, готовый рискнуть на все для выполнения даже прихоти своей. – а здесь дело шло о чем-то гораздо большем, чем прихоть. Итак, все вышло из характеров действующих лиц, по законам строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повесть была простым анекдотом, и новые знакомые уже пустились в рассуждения по поводу его, как вдруг Максим Максимыч, у которого воспоминание ожило и потребность сообщить его другому возбудилась, как бы говоря с самим собою, прибавил: «Никогда себе не прощу одного: черт дернул меня, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся – такой хитрый! – а сам задумал кое-что». Что может быть естественнее, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могут быть делом расчета и соображения: они плод вдохновения.
Итак, история Бэлы кончилась; но роман еще только начался, и мы прочли одно вступление, которое, впрочем, и само по себе, отдельно взятое, есть художественное произведение, хотя и составляет только часть целого. Но пойдем далее. В Владикавказе автор опять съехался с Максимом Максимычем. Когда они обедали, на двор въехала щегольская коляска, за которою шел человек. Несмотря на грубость этого человека, «балованного слуги ленивого барина», Максим Максимыч допросился у него, что коляска принадлежит Печорину. «Что ты? Что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?» В глазах Максима Максимыча сверкала радость. «Служил, кажется, да я у них недавно», – отвечал слуга. «Ну так! так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут? Мы с твоим барином были приятели». – прибавил Максим Максимыч, ударив дружески по плечу лакея так, что заставил его пошатнуться… «Позвольте, сударь; вы мне мешаете», – сказал тот, нахмурившись. «Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? Мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе… Да где ж он сам остался?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н***. «Да не зайдет ли он вечером сюда? – сказал Максим Максимыч, – или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи… уж он знает… Я дам тебе восьмигривенный на водку…» Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, – пойду за ворота его дожидаться… Эх, жалко, что я не знаком с Н***!!»
Итак, Максим Максимыч ждет за воротами. Он отказался от чашки чая и, наскоро выпив одну, по вторичному приглашению, опять выбежал за ворота. В нем заметно было живейшее беспокойство, и явно было, что его огорчало равнодушие Печорина. Новый его знакомый, отворив окно, звал его спать: он что-то пробормотал, а на вторичное приглашение ничего не ответил. Уже поздно ночью вошел он в комнату, бросил трубку на стол, стал ходить, ковырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался… «Не клопы ли вас кусают?» – спросил его новый приятель. «Да, клопы…» – отвечал он, тяжело вздохнув.
На другой день утром сидел он за воротами. «Мне надо сходить к коменданту, – сказал он. – так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной». Но лишь ушел он, как предмет его беспокойства явился. С любопытством смотрел на него наш автор, и результатом его внимательного наблюдения был подробный портрет, к которому мы возвратимся, когда будем говорить о Печорине, а теперь займемся исключительно Максимом Максимычем. Надо сказать, что, когда Печорин пришел, лакей доложил ему, что сейчас будут закладывать лошадей. Здесь мы снова должны прибегнуть к длинной выписке.
Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему: «Если вы захотите еще немного подождать. – сказал я. – то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем…»
– Ах, точно! – быстро отвечал он, – мне вчера говорили. – но где же он? – Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи… Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос вырвались из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали… он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.