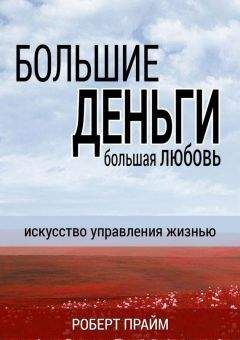Виссарион Белинский - Взгляд на русскую литературу 1846 года
В прошлом 1846 году вышли стихотворения гг. Григорьева, Полонского, Лизандера, Плещеева, г-жи Юлии Жадовской, «Троян и Ангелица» г. Вельтмана – что-то вроде детской сказки не то в стихах, <не то>{12} в мерной прозе; «Слово о Полку Игоря», переделанное г. Минаевым на поэму во вкусе не древности, не старины, а того недавнего времени, когда была мода на поэмы. Это, в сущности, не больше, как распространение или разжижение довольно бойкими стихами довольно короткого и сжатого «Слова о Полку Игоревом». Мы рады будем, если попытка г. Минаева понравится публике; но, что до нас собственно касается, нам так нравится «Слово о Полку Игоревом» в его настоящем виде, что мы не можем без неприятного чувства смотреть на его переделки. Нам кажется, что его вовсе не нужно ни изменять, ни переводить, ни перелагать, но довольно заменить в нем слишком обветшалые и непонятные слова более новыми и понятными, хотя и взятыми из народного же языка. Мы назвали стихи г. Минаева бойкими; прибавим к этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторженны, и что в них больше риторики, нежели поэзии. Г. Минаев – энтузиастический поклонник «Слова о Полку Игоревом»; в его глазах оно чуть ли не выше всей русской поэзии, от Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняет он в послесловии к стихотворному труду своему, которое носит следующее наивно семинарское название: «Для любознательных отроковиц и юношей».
Стихотворения г-жи Юлии Жадовской были превознесены почти всеми нашими журналами. Действительно, в этих стихотворениях нельзя отрицать чего-то вроде поэтического таланта. Жаль только, что источник вдохновения этого таланта не жизнь, а мечта, и что поэтому он не имеет никакого отношения к жизни и беден поэзиею. Это, впрочем, выходит из отношений г-жи Жадовской к обществу как женщины. Вот стихотворение, которое вполне объясняет это положение:
Меня гнетет тоски недуг;
Мне скучно в этом мире, друг;
Мне надоели сплетни, вздор —
Мужчин ничтожный разговор.
Смешной, нелепый женщин толк,
Их выписные бархат, шелк, —
Ума и сердца пустота
И накладная красота.
Мирских сует я не терплю,
Но божий мир душой люблю,
Но вечно будут милы мне —
И звезд мерцанье в вышине,
И шум развесистых дерев,
И зелень бархатных лугов,
И вод прозрачная струя,
И в роще песни соловья.
Нужно слишком много смелости и героизма, чтобы женщина, таким образом отстраненная или отстранившаяся от общества, не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею, если не для наслаждения, которого возможности не видит в ней. Г-жа Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрение на небо и звезды. Почти в каждом своем стихотворении не спускает она глаз с неба и звезд, но нового ничего там не заметила. Это не то, что Леверье, который открыл там планету Нептун, до него никем не знаемую. По нашему мнению, Леверье больше поэт, чем г-жа Жадовская, хоть он и не пишет стихов. Охотно согласимся с теми, кто найдет наше сближение неуместным или натянутым; но все-таки скажем, что смотреть на небо и не видеть в нем ничего, кроме общих фраз, с рифмами или без рифм – плохая поэзия! Да и что путного может увидеть в небе поэт нашего времени, если он совершенно чужд самых общих физических и астрономических понятий и не знает, что этот голубой купол, пленяющий его глаза, не существует в действительности, но есть произведение его же собственного зрения, ставшего центром видимой им сферической выпуклости; что там, на высоте, куда ему так хочется, и пусто, и холодно, и нет воздуха для дыхания, что от звезды до звезды и в тысячу лет не долетишь на лучшем аэростате… То ли дело земля: – на ней нам и светло и тепло, на ней все наше, все близко и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия… Зато кто отворачивается от нее, не умея понимать ее, тот не может быть поэтом и может ловить в холодной высоте одни холодные и пустые фразы…
Из поименованных нами стихотворных книжек, вышедших в прошлом году, замечательнее других – «Стихотворения» Аполлона Григорьева. В них, по крайней мере, есть хоть блестки дельной поэзии, то есть такой поэзии, которою не стыдно заниматься, как делом. Жаль, что этих блесток не много; ими обязан был г. Григорьев влиянию на него Лермонтова; но это влияние исчезает в нем все больше и больше и переходит в самобытность, которая вся заключается в туманно-мистических фразах, при чтении которых невольно приходит на память эпиграмма Дмитриева:{13}
Уж подлинно Бибрус богов языком пел:
Из смертных бо его никто не разумел.
Вот самобытность, которая не стоит даже подражательности!
Но истинным приобретением для русской литературы вообще было вышедшее в прошлом году издание стихотворений Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворения все были уже напечатаны и прочтены в альманахах и журналах, они производят впечатление новости потому именно, что собраны вместе и дают читателю понятие о всей поэтической деятельности Кольцова, представляя собою нечто целое.{14} Эта книжка – капитальное, классическое приобретение русской литературы, не имеющее ничего общего с теми эфемерными явлениями, которые, даже и не будучи лишены относительных достоинств, перелистываются как новость для того, чтоб быть потом забытыми. В наше время стихотворный талант нипочем – вещь очень обыкновенная; чтобы он чего-нибудь стоил, ему нужно быть не просто талантом, но еще большим талантом, вооруженным самобытною мыслию, горячим сочувствием к жизни, способностию глубоко понимать ее. Благодаря толкам журналов некоторые маленькие таланты кое-как поняли это по-своему и стали на заглавных листках своих книжек ставить эпиграфы, во свидетельство, что их поэзия отличается современным направлением, да еще латинские эпиграфы, вроде следующего: Homo sura, et nihil humani a me alienum puto[4]. Но ни ученость, ни образование, ни латинские эпиграфы, ни даже действительное знание латинского языка не дадут человеку того, чего не дала ему природа, и так называемое «современное направление» поэтов известного разряда всегда будет только «пленной мысли раздраженьем»…
Вот отчего полуграмотный прасол Кольцов, без науки и образования, нашел средство сделаться необыкновенным и самобытным поэтом. Он сделался поэтом, сам не зная как, и умер с искренним убеждением, что если ему и удалось написать две-три порядочные пьески, все-таки он был поэт посредственный и жалкий… Восторги и похвалы друзей не много действовали на его самолюбие… Будь он жив теперь, он в первый раз вкусил бы наслаждение уверившегося в самом себе достоинства, но судьба отказала ему в этом законном вознаграждении за столько мук и сомнений…
Так как мы не можем сказать о поэзии Кольцова ничего, кроме того, что уже высказано об этом предмете в статье: «О жизни и сочинениях Кольцова», вошедшей в состав издания его сочинений, то и отсылаем к ней тех, которые не читали ее, но хотели бы знать наше мнение о таланте Кольцова и его значении в русской литературе.
Из стихотворных произведений, появившихся не отдельно, а в разных изданиях прошлого года, замечательны: «Помещик», рассказ (в «Петербургском сборнике») и «Андрей», поэма (в «Отечественных записках») г. Тургенева; «Машенька», поэма г. Майкова (в «Петербургском сборнике»); «Макбет» Шекспира, перевод г. Кронеберга, стихами и провою. Замечательных мелких стихотворений в прошлом году, как и вообще в последнее время, было очень мало. Лучшие из них принадлежат гг. Майкову, Тургеневу и Некрасову.
О стихотворениях последнего мы могли бы сказать более, если бы этому решительно не препятствовали его отношения к «Современнику».{15}
Кстати о стихотворных переводах классических произведений. Г. А. Григорьев перевел Софоклову «Антигону» («Библиотека для чтения», № 8). За многими из наших литераторов водится замашка говорить с таинственною важностью о вещах давным-давно известных и приниматься с самоуверенностью за совершенно чуждую им работу. Г. Григорьев объявляет в небольшом предисловии к своему переводу, что он со временем! «изложит свой взгляд на греческую трагедию», взгляд, «особенное начало которого есть, впрочем, непосредственная связь ее с учением древних мистерий». Да это знают дети в низших классах гимназий! Вот, например, идея, что в одной «Антигоне» является борьба двух начал человеческой жизни – личного права и долга против общего права и долга и что, следовательно, «в «Антигоне» из-за древних форм веет предчувствием иной жизни» – эта идея принадлежит исключительно г. Григорьеву, и мы охотно готовы оставить ее за ним. Что касается до самой «Антигоны», то едва ли Софокл – «аттическая пчела» – узнал бы себя в этом торопливом, исполненном претензий и крайне неверном переводе г. Григорьева. Величавый древний сенар (шестистопный ямб) превратился в какую-то рубленую, неправильную прозу, напоминающую новейшие «драматические представления» наших доморощенных драматургов; мелодические хоры являются пустозвонным набором слов, часто лишенных всякого смысла; о древнем колорите, характеристике каждого отдельного лица нет и помина[5]. Спрашивается, для чего и для кого трудился г. Григорьев? Разве для того, чтобы отбить у нас и без того не слишком сильную охоту к классической старине, с которою он так необдуманно обошелся?..