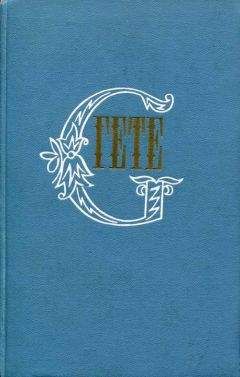Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Об искусстве и литературе
Фабр д’Оливе перевел упомянутую мистерию нерифмованными стихами на французский язык и, сопроводив свой перевод рядом критических замечаний философского характера, решил, что опроверг Байрона. Правда, эта работа не попалась мне на глаза, но газета «Moniteur» от 30 октября 1823 года подняла голос в защиту поэта и высказала относительно отдельных частей и сцен «Каина» мнение, полностью совпавшее с нашим; тем самым она вновь пробудила наши мысли; уловив наконец в беспорядочном хоре равнодушных голосов родственные нам звучания, мы охотно откликаемся на них.
Обратимся, однако, к автору статьи и приведем его собственные слова:
«Сцена, напряжение которой достигает кульминации в момент, когда Ева проклинает Каина, свидетельствует, по нашему мнению, о силе и глубине байроновских идей; Каин предстает перед нами достойным сыном своей матери.
Переводчик спрашивает, где поэт нашел прообраз своего героя? Лорд Байрон мог бы ему ответить: в мире природы, в созерцании ее, там, где Корнель нашел свою Клеопатру, где античные трагики нашли свою Медею; да и в самой истории мы обнаруживаем множество характеров, находящихся во власти беспредельных страстей.
Каждый, кто глубоко изучил человеческое сердце и постиг, сколь сильно может оно заблуждаться, обуреваемое различными чувствами, — это особенно часто наблюдается у женщин, не ведающих меры ни в добре, ни в зле, — не станет упрекать лорда Байрона в том, что он погрешил против истины или исказил ее, пусть даже речь идет о первых днях сотворения мира и о первой семье на земле. Байрон показывает нам природу человека в ее испорченности, — природу, красоту и изначальную чистоту которой такими свежими, яркими красками запечатлел Мильтон.
Ева, изрыгающая страшные проклятья, — что вызвало нарекания в адрес поэта, — уже не воплощение совершенства и невинности; в ней идет брожение яда, которым искуситель навеки погубил прекрасные задатки и чувства, предназначенные создателем для неизмеримо более высоких целей; чистая, сладостная самоудовлетворенность уже превратилась в тщеславие, а пробужденное врагом рода человеческого любопытство повлекло за собой злосчастное неповиновение, обмануло надежды творца и исказило его творение.
В своей пристрастной любви к Авелю, в своих яростных проклятьях его убийце Каину Ева вполне последовательна — такой она стала теперь. Слабый, но ни в чем не повинный Авель, воплощение Адама после грехопадения, тем милее матери, что не ранит ее болезненным воспоминанием об унизительном проступке. Напротив, Каин, в значительной мере унаследовавший гордость Евы и сохранивший силу, утраченную Адамом, мгновенно пробуждает в ней все горькие воспоминания, заставляет вновь ощутить все удары ее самолюбию.
Смертельная рана, нанесенная ее материнской любви, делает горе Евы безысходным, заставляет забыть, что и убийца ей сын. Могучему гению лорда Байрона надлежало нарисовать эту картину во всей ее страшной правде, изобразить эти события именно так, или вообще не касаться их».
Мы можем без всяких колебаний продолжить эту мысль автора статьи и распространить то, что было сказано об особенном, на общее: если лорд Байрон хотел написать «Каина», он должен был видеть его именно таким или вообще отказаться от своего намерения.
Теперь это произведение в оригинале и переводах получило широкое распространение и не нуждается ни в нашей рекомендации, ни в наших похвалах. Однако кое-что мы считаем нужным заметить.
Поэт, проникая огненным духовным взором в неизмеримые глубины прошлого и настоящего, а вслед за тем и грядущего, открыл новые сферы своему безграничному таланту; предвосхитить, что он совершит в них, никому не дано, однако в некоторой степени определить его творчество мы уже можем.
Байрон следует букве библейского предания, рисует, как первые люди утратили свою первозданную чистоту и невинность, совершив вызванное таинственной причиной прегрешение, которое навлекло кару на все последующие поколения. Это страшное бремя он возлагает на плечи Каина — в нем воплощен образ сумрачного рода человеческого, ввергнутого без какой-либо вины в пучину бед. Каина, первого сына на земле, согбенного под неимоверной тяжестью, преследует мысль о смерти, которой он еще не видел; быть может, он и желал бы покончить с мукой настоящего, но заменить его иным, совершенно неведомым состоянием представляется ему еще более отталкивающим. Уже из этого явствует, что вся тяжесть поясняющей, опосредствующей и внутренне противоречивой догматики, которая занимает нас и поныне, обременяет мрачного сына первых людей.
Эти отнюдь не чуждые человеческой природе страдания, как вздымающиеся волны, колеблют душу Каина, и он не находит успокоения ни в богобоязненном смирении отца и брата, ни в любви и участии сестры-жены. Сомнения Каина беспредельно обостряются и становятся совершенно нестерпимыми с появлением Люцифера, могучего духа-искусителя, который начинает с того, что ставит под сомнение нравственные устои Каина, а затем чудесным образом проносит его над мирами, открывая его взору безмерное величие прошлого, ничтожество настоящего и безнадежность смутно ощущаемого грядущего.
Взбудораженный всем виденным, Каин возвращается в свою семью; он не стал хуже, но дома, где за время его отсутствия ничто не изменилось, назойливость Авеля, уговаривающего его совершить жертвоприношение, стала ему невыносима. Дальнейшие слова излишни. Скажем только, что сцена гибели Авеля необычайно тонко мотивирована; все последующее отличается таким же неоценимым величием. Вот лежит Авель! Это и есть смерть, о которой столько было сказано, но и теперь люди знают о ней не более, чем прежде.
Однако не следует забывать, что сквозь всю мистерию проходит своего рода предвидение Спасителя, что поэт и в этом, как и во всем остальном, приближается к нашим понятиям, истолкованиям и доктринам.
О сцене, в которой Ева проклинает безмолвного Каина, сцене, столь благожелательно охарактеризованной нашим западным единомышленником, мы ничего больше сказать не можем; нам остается только, благоговея и восхищаясь, следовать за автором, приближаясь к концу повествования.
Одна тонкая ценительница Байрона, близкая нам своим отношением к поэту, высказала такую мысль: все, что может быть сказано в мире о религии и нравственности, содержится в трех последних словах мистерии.
1824
О ПАРОДИИ У ДРЕВНИХ
Как трудно нам освобождаться от привычных представлений, в особенности когда надо перенестись в мир более высокий и для нас недоступный, ясно можно себе представить лишь после многочисленных попыток, иногда тщетных, иногда же и увенчивающихся успехом.
Я с юных лет старался освоиться с духом греческой мысли, и достойные люди говорят, будто это в известной степени мне и удалось. Здесь я хочу напомнить только о еврипидовском образе Геркулеса, который я однажды противопоставил новейшему и притом вовсе не плохому его изображению.
В этом своем стремлении вот уже в течение пятидесяти лет я продвигаюсь вперед и никогда, в дороге, не выпускал из своих рук путеводной нити. Но за это время я не раз сталкивался с множеством препятствий и лишь с трудом пересиливал свою северную натуру и свойственное мне как немцу убеждение, будто все, выходящее из рук греческого поэта, является чистой монетой, тогда как в иных случаях мы имеем дело лишь с выкупом и платежом до срока.
Так, в частности, мне было весьма досадно читать и слышать, что у древних, вслед за великолепными и непомерно волнующими драмами, тут же в заключение давался еще и шутовской фарс.
И вот мне хочется поведать, каким образом я примирился с подобным положением вещей и как мне удалось разгадать ранее непонятную для меня загадку. Быть может, это послужит кому-нибудь на пользу.
Греки, будучи народом общительным, охотно говорили сами и в качестве республиканцев не менее охотно слушали других. В конце концов они настолько привыкли к публичным речам, что бессознательно усвоили ораторское искусство, сделавшееся для них чем-то вроде потребности. Этот элемент был в высшей степени благоприятен для драматурга, желающего изобразить на сцене высшие человеческие интересы и достаточно точно и веско выразить различные мнения партий с помощью реплик и контрреплик. Если он успешно пользовался этим средством уже в своих трагедиях, с полной, хотя бы и воображаемой, серьезностью соперничая в них с заправскими ораторами, то, быть может, еще большее значение оно имело для комедии, ибо, обращаясь с подлинным художественным умением к изображению низменных предметов, поэт создавал произведения высокого стиля, нечто непонятное и вызывающее в нас удивление.