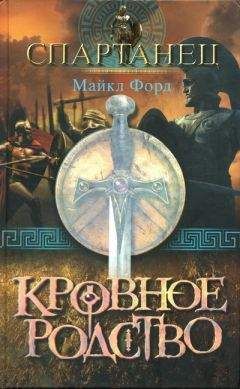Виссарион Белинский - Русские журналы
Для русского это впечатление тем еще могущественнее, что проникает также в его национальное существо и пробуждает в нем всю полноту жизни его отечества, его народа. Создания Пушкина все полны Россиею, Россиею во всех ее направлениях и видах. Мы ближе разберем значение того, что сейчас нами сказано, и посмотрим, как национальность Пушкина была выгодна для его поэзии. Всякой поэт, который не теряется в идеальных общностях, выговаривает более или менее жизнь своего народа, характер своей страны, и во всяком случае, качество этой жизни и этого характера имеет сильное влияние на его поэзию. Но почти всегда круг, очерчиваемый им, тесен; из этого круга почти всегда выходит только нечто одностороннее, нечто однообразное.
Байрон избежал этой тесноты, прибавив к английскому испанское, немецкое, итальянское и греческое; но он обогатил свою поэзию не иначе, как беспрерывными своими путешествиями. Если Гете умел, сверх немецких элементов, включить в свою поэзию элементы славянские и восточные, то это удалось ему только вследствие некоторых условий его жизни и по особенной могучести его духа. Но русскому поэту всё это разнообразие разрозненных пространством и духовно различных элементов дается уже само собою; все это уже он находит в своем национальном кругу. Ему равно доступны, равно родственны юг и север, Европа и Азия, дикость и утонченность, древнее и новейшее; изображая самые различные предметы, он изображает предметы отечественные. Величина и могущество России, объем и содержание русской империи имеют в этом отношении самое благотворное влияние; мы можем отсюда видеть, в каком внутреннем соотношении с государством живет поэзия. Состоя из тех же самых основных стихий, какие соделывают государство могущественным, развивается поэзия изнутри наружу (von innen her). Пушкин, владея мощными силами, вполне воспользовался выгодою своей национальности, вполне осуществил ее. Созерцая самые противоположные изображаемые им состояния, чувствуешь, что они все равно принадлежат поэту, что он на всех их имеет равные права; они его, они – русские. Мы можем здесь, выражаясь собственными словами поэта, сказать:
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного кремля
До стен недвижного Китая,
везде – в мире сельских нравов и в блестящем модном свете, в великолепных палатах и под сению цыганской кущи – везде он на своей родной почве, и везде на этой почве дает отпрыски его поэзия. Действительно, весь этот богатый мир, во всем его объеме, претворил Пушкин в поэтическое созерцание.
Рассматривая поэмы Пушкина, каждую отдельно, Варнгаген иногда одним выражением, одним словом умеет высказать подмеченную им сторону предмета. Поэтому его слог, так живо, сжато, энергически переданный талантливым переводчиком, отличается удивительною рельефностью, если можно так выразиться[5]. Говоря об «Онегине», он как бы мимоходом высказывает следующее глубокое замечание:
Мы не знаем ни одного произведения, из известного нам литературного круга, которое бы можно было сравнить с «Онегиным» Пушкина. Тот, кто бы вздумал тут указать на Байронова «Чайльд-Гарольда», показал бы только в себе человека, не способного проникнуть дальше наружной стороны. Даже и тогда, когда Пушкин касается самого обыкновенного, характер и направление его являются необыкновенно самобытными; поэт высоко парит над своими образами, из которых одними он беспечно играет и шутит, другие же скорбно прижимает к груди своей…
Изложивши содержание «Бориса Годунова», Варнгаген заключает свой беглый разбор этого гигантского создания следующим глубоко философским взглядом на его основную мысль:
Так заключается драма, заключается величественным впечатлением, в котором сосредоточивается вся сила совершившегося и в котором таится предчувствие новой Немезиды для нового преступления. Поэт разоблачил перед нашими взорами мировую судьбу. Борис, способный и достойный царствовать, достигает престола посредством преступления и торжествует над утратившим силу правом; тщетно надеется он превратить свои достоинства и заслуги в право и злоприобретенное передать любимому сыну, как честное наследство. Из самого преступления развивается месть; но не истина, не право низвергает его, а новый обман, который ясен ему самому, как обман. Поддельный вид права уже достаточно силен для того, чтобы уничтожить злоприсвоенное владычество. История не всегда свершает так свой суд; наши глаза часто едва-едва могут следить по рядам столетий за Немезидою; но те моменты истории, в которых суд свершается так же быстро и так же явственно, как здесь, – они-то и заключают в себе то, что мы зовем трагическим. Катастрофа «Бориса Годунова», которую поэт имел полное право отдвинуть за кончину самого Бориса до решительной гибели всего царского рода, сама собою переплетается с судьбою Лже-Димитрия; но из этих двух трагических ветвей лиственно преобладает первая как большей определенностью, так и большим обилием содержания, и выбор Пушкина доказывает всю глубокость его гения, который был притом столько могуществен, столько богат, что мог изобразить во всем достоинстве и второго представившегося ему героя.
Вот что говорит глубокомысленный Варнгаген о мелких стихотворениях Пушкина:
Великое созерцание природы лежит в основании всех его стихотворений, оно просвечивает сквозь все переливы ощущений и дает им тон и выражение. В дивно прекрасных строфах «К морю» как будто воздымается во всем своем великолепии эта свободная стихия, с которою так тесно связаны вдохновение и грусть души, порывающейся вдаль; они намекают на гробницу Наполеона и на песни Байрона, которого образ мощно очерчен в образе моря, и наполняют нашу душу грустию самого поэта, отрывающегося от любимого им берега. Жалобы, исторгаемые из души поэта разлукою и одиночеством, воспоминания об обольщениях и утратах жизни, думы и мечты в дороге – все это гармонически перемешано с образами природы; у него равно художественны: и лист, запоздалый на ветке, и одинокий звук, раздавшийся в зимнюю ночь, и опоясанный облаками Кавказ, и зеленое море степей…
Но мы невольно увлеклись прекрасною статьею Варнгагена и забыли, что должны говорить об «Отечественных записках». Кроме уже исчисленных нами критических статей, следует указать на очерки иностранных литератур, из которых особенно примечательны – французской в I и V №№. Не можем удержаться, чтобы не выписать из последней следующего места:
Мы любим болтуна{63} Жанена и всегда читаем его с удовольствием. Да и как не любить его, этого француза в полном смысле слова – доброго, простого малого, без всяких претензий, говоруна наивного, вечно живого, забавного, нередко остроумного, часто даже трогательного, особенно в своих воспоминаниях юности, в своих рассказах о тех, кто был близок к его сердцу? Жанен – это вся французская литература, живая, легкая, ветреная, непостоянная, блестящая, как брильянтовый фейерверк, и часто пустая, как фейерверк; – это ее зеркало, ее resume, ее тип современный. Стоя бессменно на страже французской литературы и даже вообще французского искусства, он так свыкся, сроднился с своим постом, своим званием, что жить без них не может, как рыба без воды, как птица без воздуха. Он умер бы от скуки и от огорчения, если б у него отняли перо, театр, художественные выставки, хотя бы взамену этого осыпали его золотом, поселили бы в богатом замке, окружили бы всем, что только роскошь и нега могут придумать лучшего и заманчивого. Нет, дайте ему движение, этот вечный шум, эти вечные хлопоты – вот его сфера, его мир, блаженство. Это не святоша-Ламартин, прикрывающий маскою фарисейское лицо свое, – нет, он весь перед вами, со всеми слабостями и достоинствами. «Совру – простят» – вот девиз его, а с этим девизом ему не нужно надевать никакой маски: и точно, нередко он врет, но врет так умно, так мило, так простодушно, что вы забудетесь и заслушаетесь его россказней.
Конечно, во всех этих статьях пробивается усилие к характерному и дельному направлению, но все это еще не определенно, не резко. Среди самых дельных мыслей часто встречаются противоречия, заметно как бы борение двух противоположных учений.
В библиографической хронике «Отечественных записок» те же достоинства и те же недостатки. Достоинства: часто беспристрастные, дельные, хорошо написанные отзывы о сочинениях; недостатки: иногда дух парцияльности, иногда устарелость мнений и самого изложения их. Последнее случается реже и объясняется участием не одного, а многих лиц, в библиографической хронике. Первое же заслуживает особенный упрек. Зачем, например, так часто употреблять имена гг. Орлова (А. А.) и Булгарина (Ф. В.) нераздельно? – Это, во-первых, должно непременно обнаруживать, что «Отечественные записки» придают этим двум, конечно, примечательным лицам в нашей литературе слишком большую важность; а во-вторых, это может их взаимно возгордить одного на счет другого, в ущерб успехам нашей литературы{64}. В IV № «Отечественных записок» нас поразил ужасом отзыв о «Борисе Ульине», этом жалком произведении, обличающем в авторе его образцовую бездарность. И как будто издеваясь над памятью Пушкина, «Отечественные записки» хотят нас уверить, что автор оного «Бориса Ульина» был соблазнен легкими стихами Пушкина, не догадываясь, что легкие стихи Пушкина в то же время и очень тяжелы, так что надо иметь богатырскую силу, чтобы владеть ими, как собственным оружием. Но, впрочем, может быть, мы понапрасну горячимся: может быть, отзыв «Отечественных записок» – тонкая насмешка, для удостоверения в чем достаточно обратить внимание на стихи, которые выписаны в рецензии «Отечественных записок», как отличнейшие, тогда как в них смыслу нет. Вот они: