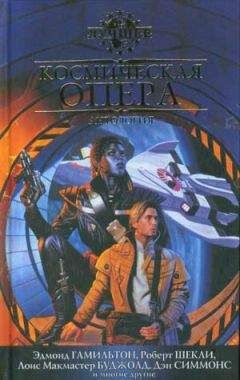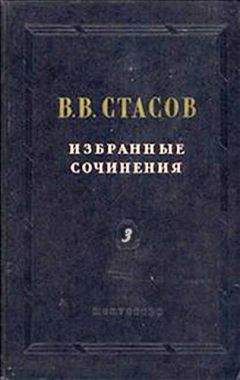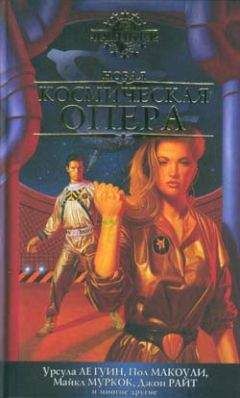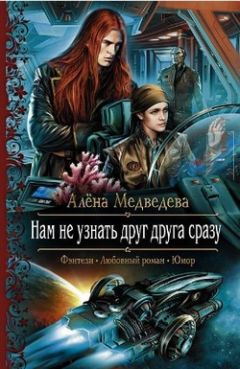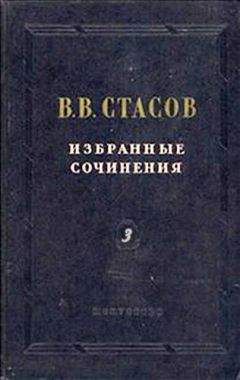Владимир Стасов - После всемирной выставки (1862)
IV
Про живопись нельзя уже сказать того, что нам приходилось говорить про архитектуру и скульптуру.
Она одна вознаграждала за совершенное почти отсутствие тех двух искусств на выставке. О нашей живописи как будто бы немного и заботились, кое-что собирали и выбирали между картинами. Что же это доказывает? То ли, что у нас верят в существование и потребность живописи, убеждены в действительной значительности наших картин или просто, глядя на лондонскую выставку практическими глазами торговца, надеялись, что авось не одна картина найдет себе заграничных покупщиков, да и на будущее время будет готовый для нас рынок. Я думаю, последнее соображение было не из последних. Чем большинство наших живописцев (особливо прежних) лучше большинства наших архитекторов и скульпторов? Все они одно и то же, одинаково настроены, одинаково работают, одинаково и производят, а между тем одни появились в Лондоне, а другие нет. Значит, для одних был расчет показаться на всемирной выставке, а для других — никакого. Одним нужно было, чтоб их имена сделались известны за границей, другим это было все равно.
По-видимому, художественные и эстетические соображения не играли тут никакой роли; иначе как объяснить, что в ту минуту, когда мы в первый раз показывались в Европу и должны были собраться со всеми силами, со всем, что за собой знали лучшего и характернейшего, мы второпях сгребли только почти одно то, что вышло из-под кисти нынешних модников и любимцев, да по дороге прихватили кое-что из прежнего, и, разумеется, при таких сборах, без плана, без мысли, без соображения, одно забыли, другое оттолкнули, третье невпопад схватили. Вспомним все и всех, чем мы до сих пор чванились, за что посылали от нас на долгие годы за границу, за что делали профессорами, за что платили дорогие деньги, — где все это? Куда девалось? Ничего на выставку не попало.
Не большая ли, однако же, это странность? Гордимся теми или другими вещами, а как только надо другим показать, что умеем делать и что до сих пор сделали, вдруг совершается превращение, и то, что прежде считали не только превосходным, но и необыкновенным, сами же мы отодвигаем прочь, беремся за совсем иное, за что не давали ни профессорства, ни денег, ни орденов. Каждый у нас мог бы протестовать, не найдя на лондонской выставке ничего из того, что всегда на его веку превозносилось как великое и гениальное или хоть значительное и прекрасное.
Но возьмем нашу выставку как она есть, она все-таки представляет довольно значительное целое, осязательно доказывающее, что у нас есть живопись и живописцы и что последние не только учились в школе, но работали и после нее.
Какой же характер имело это целое?
Иностранцам оно внушало мало симпатии и уважения, потому что представлялось им не больше как странной мозаикой напрокат, случайным каким-то маскарадом. «Русское искусство, — говорит Пальгрев, — по-видимому, находится до сих пор в таком первоначальном и шатком состоянии, что выставка его произведений не заключает высокого национального интереса. Без каталога трудно было бы догадаться, что эти; столько различные одна от другой картины, на которых отразились всевозможные влияния, кроме русского, произведены одним и тем же великим государством; а при отсутствии определенного национального стиля мы ничего не можем ожидать, кроме рассеянных, по частям, достоинств». — «Любопытно, — говорит Тэйлор, — увидеть на русской выставке сшибку всех особенных влияний, под гнетом которых русское искусство доросло до своего нынешнего, очень несовершенного развития» (далее он исчисляет эти влияния: итальянские, голландские, французские). — Что же теперь мы сами? Неужели мы больше иностранцев имеем права быть довольны нашим искусством и, несмотря на сравнения, к которым приводили чужие коллекции на всемирной выставке, все-таки будем уверять себя, что нас не понимают и не ценят? Неужели мы вечно будем убаюкивать себя ложными утешениями самодовольства?
Нет, взглянем прямо в глаза нашему прошедшему и смело скажем ему, что мало у нас с ним родственного, мало для нас дорогого в нем, коль скоро оно никогда не чувствовало своей униженной роли копииста и повторителя и коль скоро вплоть до самого нашего времени не раздавалось в нем голоса, призывавшего на собственную, своеобразную деятельность. Что это за наше искусство, в котором все чужое? И это от первой мысли и до последней черты исполнения. На всемирной выставке мы удивили не нашим искусством, а нашей готовностью быть послушным эхом всех и каждого. Что после того значит наше уменье, наша техника! Ведь и другие тоже не спали в Европе, ведь и они тоже делали успехи в уменье и технике, конечно, никак не «меньше нашего, только с тою разницею, что давно почувствовали не только постыдность, но бесполезность быть подражателями и ступили на свою собственную дорогу.
Оставим же наше чванливое уменье в стороне, взглянем, определим себе, что такое наша живопись в ряду других школ.
У нас в искусстве постоянно совершается один преудивительный факт. Мы привыкли всю жизнь бессознательно проводить в подражаниях и копиях и, странное дело, в то же время привыкли считать свои бледные повторения за создания самобытные, достойные счастливейших эпох искусства. Мы всегда думали, что наши художники прямые продолжатели и наследники Рафаэлей и Микель-Анджелов, Рубенсов и Рембрандтов и рядом с ними станут на страницах истории. Мы умели только приходить в восторг и восхищаться доморощенным, у нас не было еще привычки рассматривать и сравнивать. Никто не смел сказать себе и другим: „Куда нам до Рафаэлей и гениальности! Довольно с нас удержаться в ряду и со школами третьей руки!“ Куда! Нам все мерещилось удивительное наше величие и необычайные заслуги; нам и в голову не могло прийти, что где такое полное отсутствие творчества, как у нас, такая апатия, такое отсутствие потребности создавать свое, там надо почитать себя счастливым, если не станешь и еще ниже.
Всемирная выставка 1862 года послужила, наконец, к определению, с какою школой искусства у нас всего более сходства. Имев постоянно перед глазами одни только образцы, с которых копировали, мы с ними одними себя и сравнивали, в них искали точек опоры для самовосхваления и самовозвеличения. Но ведь и у других было время, когда они только подражали и копировали, когда думали только о том, как бы приблизиться к прежним итальянским мастерам. Все, с разных концов Европы, обращали глаза к одним и тем же идеалам, но результаты подражания выходили везде разные. Все ссылались на одного и того же Рафаэля, и все-таки товарищи по одному и тому же копированию не выходили похожими одни на других. Один характер получили испанцы, другой французы, третий фламандцы. Один факт подражательности и копирования не дает нам еще всей физиономии школы. Это еще только отрицательный признак. Какие же положительные признаки нашей школы, какой ее характер? На кого она всего больше похожа?
Мне кажется, действительного сходства у ней нет ни с прежними итальянцами, которых она копировала по привычке или моде и, однако же, без всякой внутренней потребности, но нет у ней сходства и ни с одной из новых европейских школ. Все они давно уже углубились каждая в свою особенную задачу, для наших художников либо далекую, либо странную и дикую, и, оставшись при старинных привычках, мы давно уже разошлись с ними в путях. Наша школа (я говорю о прежних ее периодах) всего более имеет общих черт с одною из европейских школ прежнего времени, с которою ее еще не сравнивали, да и нельзя было этого сделать до нынешней выставки, — с английскою.
Такое сравнение на первый взгляд оскорбит многих. Как! Сравнивать наши таланты, наших гениев с английскими живописцами, которых в Европе никто не знает, да и знать не хочет! Да, с ними. Всемирные выставки переменят много прежних понятий, переставят, переделают от ног до головы много старинных преданий, в том числе прежние понятия об английской живописной школе. Она, как и мы, в первый раз выступила перед целым светом, со всеми своими силами и недостатками, со всем своим хорошим и дурным. Быть может, и для самих англичан в первый раз станет ясно настоящее значение их школы. Что же мудреного после этого, если мы до сих пор имели о ней еще меньше понятия, если наши представления были совершенно ложны.
Едва ли не каждый народ, приславший картины на выставку, воображал, что у него бывали художники, равно отличные во всех родах живописи. Оттого и старались представить образцы в каждом роде. Посылавшим казалось, что тут заинтересована народная гордость, что необходимо заявить перед всеми разносторонность, многообъемлемость своей художественной деятельности, свою чуткость к каждой из всплывавших задач искусства. И слава богу, что эти народы так думали. Пусть они ошибались насчет всеобъемлемости своего художественного призвания, пусть приписывали излишние творческие силы своим художникам, все-таки они шли каждый особенной дорогой и своими попытками во всех родах дали теперь возможность определить, к чему у них было призвание и что не соответствовало их создавательным способностям. Общих способностей нет у народов, точно так же как у отдельных лиц. Человек, покуда юноша, всему учится, на многом пробует себя, прежде чем ему самому и другим сделается ясно, есть ли у него к чему-нибудь действительная, особенная способность. До тех пор он на все готов, до всего дотрагивается, ни от чего не отказывается. То же самое бывает с народами. У них свои годы юношества, проб, неузнанных сил и наклонностей, годы долгих потемков и шаренья в них ощупью. При такой же, как и все другие народы, вере в свою всеобщую способность Англия собрала со всех концов своих картины всех возможных родов и наполнила ими целую половину художественной выставки. Но доказала ли она тут то, что думала, устраивая великолепную свою залу, убедила ли она Европу в том, что ей самой до сих пор представлялось, а именно, что ее мало знаемая, до сих пор непризнанная, старая школа ничем не ниже остальных европейских школ последних трех столетий? Нет, этого результата ни для кого не вышло. Англия доказала только, что и ее художники были в самом деле художники; что и в них глубоко волновался родник поэтического ощущения и упоения красотами форм и краски. Но тут же сделалось для всех ясно, что эта прежняя школа была лишена творческого дара.