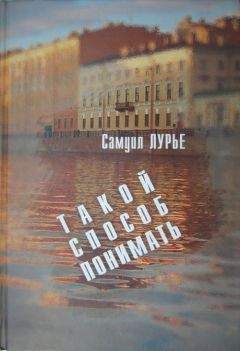Самуил Лурье - Успехи ясновидения
Вот какая здесь правда: головой выше бесстыдной лжи, причем это мертвая голова; скорей всего, ваша. Чей обезглавленный труп, за ноги привязав к хвосту кобылы, оттащат после поединка на помойку, - тот и лжец. А Господь Бог почему-то ведет себя, как оруженосец Ланселота.
О, как сбивают они с толку - сочинения про то, чего никогда не бывает в жизни! Они одни способны хоть что-то переменить.
"Погибоша, аки обре" - означает: исчезли бесследно. Это, как все помнят, из древнерусской летописи, из "Повести временных лет". Дескать, пробегал мимо славян в Западную Европу такой народ, необыкновенно свирепый, и жестоко обращался с местным населением, и за это Бог "потреби я, помроша вси". Строго говоря, геноцидом этих обров, то есть аваров, распорядились Карл Великий и за ним франкские короли, но истребили, году к 822-му, действительно, всех до единого, так что на земной поверхности осталась только материальная часть: оружие, утварь, конская сбруя.
Одна из этих трофейных вещей понравилась франкам и пригодилась необычайно. Европейский воин держался на коне, как наш Медный Всадник: вздумай он вооружиться Длинным мечом, тяжелым копьем - замахнувшись, опрокинулся бы в плоскость змеи. А к аварскому седлу подвешены были на ремнях - азиатская хитрость! - тесные такие, зыбкие ступеньки - стремена!
Они тут же вошли в употребление, переменив облик конника и ход войн. Отныне - с упором для ног - удар стал гораздо сильней - соответственно пришлось укрепить защитный доспех, завести крупные лошадиные породы, и так далее. Короче, образовалась такая живая бронетехника - чуть не полтысячи лет втаптывала прочее человечество в грязь.
Неуязвимые посреди беззащитных, опасней тиранозавров, жадные, неумолимые насильники. Одно спасение, что эти железные чучела бесперечь убивали друг дружку.
Да вот еще в Уэльсе, в некотором княжестве Гвент - как раз где при царе Горохе, при короле Артуре, стоял Круглый Стол - кельтские туземцы умели делать из ветви дикого вяза огромный лук: тетива растягивалась до уха; и оказалось, что стрела - в гусиных перьях, со стальным наконечником пробивает насквозь кольчугу, латные штаны и седло, пригвождая рыцаря к лошади. Целиться, стало быть, приходилось из древесных кущ, из высокой листвы, прибегая к мерам камуфляжа.
В XV веке - у сэра Томаса, можно сказать, на глазах - наемные лучники - зеленые куртки - сошли на равнину, став королевской пехотой, лошадей убивали тысячами - феодальному призыву пришел конец: вот когда и железные - кто за Алую розу, кто за Белую, а кто и без лозунгов, рядовым участником Столетней войны - в свою очередь поголовно погибоша.
Но - нет, не аки обре: литература еще при жизни этого ужасного сословия пересочинила их, рыцарей, оплетя соблазном самообмана. Под музыку льстивых сантиментов - наподобие шестерки, ублажающей главаря блатным романсом (что ни душегуб - то большое сердце), она завлекала их новой, небывалой, выдуманной добродетелью - любезностью, учтивостью, вежеством, одним словом - courtoisie. О смешной жалости к слабым или там сирым никто, ясное дело, не заикался; в моду, однако, входила идея, что растерзать добычу сразу же - не священный долг, что хоть иногда, хоть кое с кем лучше по-хорошему: это по-своему тоже красиво, да и благоразумно.
Провансальские менестрели, немецкие миннезингеры больше налегали на изобретенную ими (в XII еще столетии) куртуазную любовь. Но сэр Томас Мэлори, как философ тюремный, стоял за вежливость: конечно, прежде всего потому, что среди профессиональных убийц она, наподобие спортивного регламента, прививается легче и прочней; но еще, я думаю, и по той причине, что в природе нет ничего похожего на вежливость; согласитесь: помимо привилегии на секс лицом к лицу - только дар деланной улыбки, только мимика доброй воли вроде как приподнимает человека над фауной.
"-... Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело - прийти на помощь другому рыцарю, которому грозит опасность. Ведь честный человек не может смотреть спокойно, как оскорбляют другого честного человека, от того же, кто бесчестен и труслив, не увидишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не знает милосердия. А хороший человек всегда поступает с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним".
Вот зачем в романе "Смерть Артура" так прекрасно внятен, так внятно прекрасен диалог: чтобы поступки не затмевали побуждений.
Сэр Ланселот Озерный - ладья белых, по-старинному - тура; непоспешная такая поступь. Слабовольный сэр Тристрам Лионский - типичный офицер: ходит по диагонали. Короли и королевы сверх комплекта, и кони вместо пешек. Из черных фигур особенно активен сэр Брюс Безжалостный, рыцарь-предатель. А самый симпатичный - сэр Ламорак Уэльский, он же рыцарь Красного Щита.
"...вся земля была окровавлена, где они рубились. Но вот наконец сэр Белианс отступил назад и тихонько присел на пригорок, ибо он был совсем обескровлен и обессилел и не мог уже больше стоять на ногах.
Тут закинул сэр Ламорак свой щит за спину, подошел к нему и спрашивает:
- Ну, как дела?
- Хорошо, - отвечает сэр Белианс.
- Так-то, сэр, и все же я окажу вам милосердие в ваш, трудный час.
- Ах, рыцарь, - говорит сэр Белианс сэру Ламораку, - ты просто глупец. Будь ты у меня в руках, как я сейчас в руках у тебя, я бы тебя убил. Но благородство твое и доброта столь велики, что мне ничего не остается, как только забыть все то зло, какое я на тебя держал.
И сэр Ламорак опустился перед ним на колени, отстегнул прежде его забрало, а потом свое, и они поцеловались, плача обильными слезами".
В самом деле - абсурдное существо этот сэр Ламорак. Прямо князь Мышкин. Его тема, его навязчивая идея - победить, чтобы сразу же сдаться. Не знает страха, не ищет славы, не умеет ненавидеть. Скучает, наверное, в бессмысленных этих боях.
"-Во всю мою жизнь не встречал я рыцаря, чтобы рубился столь могуче и неутомимо и не терял дыхания. И оттого, - сказал сэр Тристрам, - сожаления было бы достойно, если бы один из нас потерпел здесь урон.
- Сэр, - отвечал сэр Ламорак, - слава вашего имени столь велика, что я готов признать за вами честь победы, и потому я согласен вам сдаться.
И он взялся за острие своего меча, чтобы вручить его сэру Тристраму.
- Нет, - сказал сэр Тристрам, - этому не бывать. Ведь я отлично знаю, что вы предлагаете мне свой меч не от страха и боязни передо мною, но по рыцарскому своему вежеству.
И с тем сэр Тристрам протянул ему свой меч и сказал так:
- Сэр Ламорак, будучи побежден вами в поединке, я сдаюсь вам как мужу доблестнейшему и благороднейшему, какого я только встречал!
- Нет, - отвечал сэр Ламорак, - я явлю вам великодушие: пусть мы оба дадим клятву отныне никогда больше не биться друг против друга".
Дерется, как Ланселот, любит, как Тристрам, великодушней всех - и всех несчастней: его снимают с доски в седьмой главе пятой книги - с каким позором!
"...а потом прошел во внутренние покои и снял с себя все доспехи. После того взошел он на ложе к королеве, и велика была ее радость, и его тоже, ибо они любили друг друга жестоко..."
А в соседней комнате, только представьте, сын этой дамы, этой королевы Оркнейской - рыцарь, между прочим, вполне половозрелый - отсчитывает минуты, поскольку чуть ли не сам подстроил это свидание как западню.
"...сэр Гахерис, выждав нужное время, взошел к ним и приблизился к их ложу во всеоружии, с обнаженным мечом в руке, и, вдруг схвативши свою мать за волоса, отсек ей голову.... В одной рубашке выскочил сэр Ламорак, горестный рыцарь, из постели", - вот и кончена его история. Где-то за кулисами погибнет, не отомстив, - зарежут в каких-то кустах вчетвером.
Это самая середина романа. С этой минуты он клонится к упадку: приключений все меньше, привидений все больше, - вежливость все реже торжествует, голоса грустней.
Пожертвовав сэром Ламораком, белые сразу же получили проигранную позицию. То-то они приговаривают на каждом шагу - сэр Ланселот, и сэр Тристрам, и сэр Гарет: желал бы я, милостью Божией, быть там поблизости в час, когда пал убитым этот благороднейший из рыцарей, сэр Ламорак! Явно сердятся на автора за недосмотр и предчувствуют, чем все это для них обернется.
Похоже, что и автору нехорошо, - изменившимся, коснеющим слогом он здесь же сообщает как бы в скобках, что болезнь - "величайшее бедствие, какое может только выпасть на долю узнику. Ибо покуда узник сохраняет здоровье в своем теле, он может терпеть заточенье с помощью Божией и в надежде на благополучное вызволение, но когда недуг охватывает тело узника, тут уже может узник сказать, что счастье ему окончательно изменило, тут уже остается ему лишь плакать и стенать".