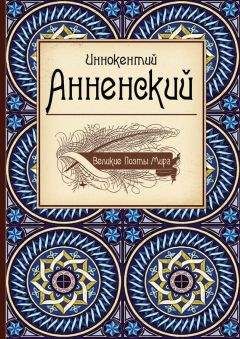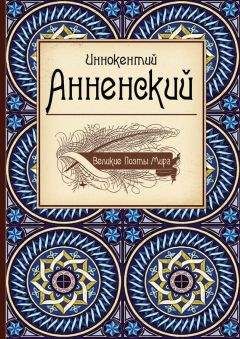Иннокентий Анненский - Книги отражений
Для второго же случая возьмите бездну вечности, которую Достоевский сводит к деревенской бане с пауками по углам.[60] Но, давая нам переживать целый ряд настроений, тот же Достоевский никогда не делал настроения центром, сутью и смыслом не только целого создания, но даже отдельной сцены, частной ситуации какого-либо из своих романов.
Сильнейшие из психологических символов бросались Достоевским мимоходом, и часто их приходится разыскивать теперь где-нибудь в сравнениях, среди складок рассказа, — так мало значения придавал им сам писатель.
Божественная сила духа, веющего в людях, где он хочет, и безмерность человеческого страдания, которая нужна была поэту, чтобы показать нам всю силу и все величие нашей души, — вот мотивы поэзии Достоевского и критерии того, что считал он важным и что неважным, что интересным и что ничтожным в собственном творчестве.
А отсюда — нечто высшее, чем жизнь отдельного человека, замкнутая между его рождением и смертью, отсюда и совесть, не как подсчет, а как исканье бога, отсюда же, наконец, второстепенность вопроса о смерти.
Страдания человека доведены в творчестве Достоевского до прямо-таки фантастического разнообразия: он умел открывать бездны ужаса не только в «скверных анекдотах»,[61] но даже в приключениях под кроватью, в жанре Поля де Кока.[62] И притом это был всегда не декоративный, не мелодраматический и уж никак не придуманный ужас, а самый заправский и притом такой, что каждый, читая о нем, и понимал, и чувствовал, что выдуман разве анекдот, но, что, попади он сам, читатель, в положение штатского генерала Пралинского,[63] он, пожалуй, испытал бы этот ужас еще острее и болезненнее.
Но среди страданья и ужасов Достоевский никогда не останавливался на надуманных, вроде тоски, которую натащил на себя человек сам, — не скажете же вы, что герой из «Подполья», когда он радуется, что у него зуб болит, выдумал себе сам весь этот ужас: ведь кто же не понимает, что этот несчастный стал злобным обитателем «Подполья» лишь потому, что иначе он должен бы был сделаться Прохарчиным или Голядкиным и что богаче выбора у него, пожалуй что, и не было.
Но отыщите у Достоевского рассказ, подобный тургеневскому «Стук… стук… стук…» или истории отца Алексея.
У Тургенева поручик Теглев поканчивает с собою после некоторых мистических выкладок, по самому ничтожному поводу, из-за каких-то дурацких стуков и шепота за окном, где повторилось его имя. Ужас здесь, конечно, самый несомненный, но дело в том, что он выискан в жизни мистиком и мистиком же с любовью оправлен в поэтическую раму. Или рассказывает у Тургенева священник о своем сыне, несчастном безумце, который пережил страшную драму одержимости и бесовского искушения, — опять — ужас, опять подлинная мука, но что скажет мне и вам случай атавизма рядом хотя бы с этой бледной женщиной, которую мы, кажется, уже видели за стеклянной дверью закладчика,[64] когда звякал звонок, возвещавший о нашем приходе в ее отравленное заточенье, и о которой мы не раз потом думали, боясь сказать себе, что и мы участвуем в той жизни, где кроткие безропотно служат узкодушию закладчиков и задыхаются на этой службе.
Страх смерти — любимый мотив современной поэзии: деревья шумят и поэту слышится напоминание о смерти; поезд подходит, этот поезд раздавит Анну Каренину; сели в винт играть, а смерть уж тут как тут; она в тайне вот этих четырех карт, и, может быть, сегодня же один из партнеров так и не узнает, что в прикупке был туз червей.[65]
А возьмите страх смерти у Достоевского: перечтите наивный рассказ князя Мышкина о человеке, которого везут к эшафоту; и вы поймете, почему именно Достоевский не мог сделать этого чувства смерти основным моментом своего творчества.
Посмотрите — вот то же чувство поэтически передано Чеховым. Получился профессор: этот человек чувствует старческий упадок сил, он боится, а, как медик, он знает, что жить ему недолго… Боится?.. Но ведь он уже и теперь не живет, а только вид делает, что живет: ведь все, что было ему близко: и наука, и Катя, его любимица, его радость, его alter ego,[66] — отошли куда-то вдаль, затуманились, а между ними и им отныне навсегда стала неподвижная черная тень, и что ему за дело теперь, что Катя нуждается в его советах, что она, может быть. погибнет, эта бедная Катя, — или что какие-то там ученые немцы еще интересуются, колпаки, патологией, когда ему, понимаете ли, ему, жить всего какой-нибудь год![67] Достоевский не любил говорить о смерти и никогда не пугал читателя ее призраком: слишком уж серьезным казался ему страх жизни и сложной сама жизнь вне индивидуальных ее рамок.
Иногда смерть приходит у Достоевского даже как-то незаметно — так кончается Ипполит Терентьев в «Идиоте», — или смерть рисуется лишь как нечто подчиненное, необходимое уже не само по себе, а в качестве перехода к другой форме бытия — и даже не в смысле богословском, не где-то там, а здесь же, среди оставленных или даже в самом умирающем: такова смерть Илюшечки или смерть Мармеладова; иногда, как для Катерины Ивановны,[68] она — желанный конец — желанный даже для самого читателя, который невольно ищет выхода из всей этой тяжелой бессмыслицы. Иногда смерть у Достоевского, наоборот, разочарование, даже более — кризис, дьявольская насмешка над сердцем, которое ждет чуда.
Такова кончина старца Зосимы;[69] иногда же весь ужас смерти переливается в ужас того, кто остался жить, — так умерла Кроткая, в виде последней жертвы передав мужу все наше сострадание, которое должно бы было по праву принадлежать ей.
Самоубийцы Достоевского или гордые фантасты, как Кириллов, или люди, которые исполняют над собой по собственному же приговору смертную казнь: таковы Свидригайлов, Смердяков, таков особенно Ставрогин.[70]
При этом смерть героя «Бесов», может быть, единственная у Достоевского страшная смерть, если кому-нибудь ее картина не покажется, впрочем, скорее тошнотной.
Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Все означало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики, по вскрытии трупа, совершенно и настойчиво отвергли помешательство.
Все знают, что Достоевский никогда не печатал драм. Он слишком любил широкую и гибкую форму рассказа; да не по нем была, конечно, и эта необходимость условно синтезировать свои мысли, жертвуя сложным узором эффекту декораций.
Но, с другой стороны, только трагедия изображала ужас настолько же подавляющим своей безмерностью и вместе с тем подлинностью, как умел делать это Достоевский. Начиная с колеса Иксиона[71] и коршуна Прометея[72] и вплоть до мучительной болезни леди Макбет, истинная трагедия никогда не допускала призрачности и даже надуманности ни в страхе, ни в страдании, как она никогда не допускала ни их слепой бесцельности, ни их нравственной бесполезности.
IIИтак, господин Прохарчин умер от страха жизни. Но Прохарчин, как всякий поэтический образ, достигающий известной идейной значительности, не является самодовлеющим, — он возводится к более сложному порядку художественных явлений, — т. е. это уже не просто некоторое подобие человека, но и симпатический символ, т. е. мысль художника, которая симпатически становится нашей. Итак, насколько удачен Прохарчин как символ? Хорошо ли он проектировал душу Достоевского для того момента, когда душа эта поместила его в свой фокус.
Представьте себе канцелярию 40-х годов не такою, какой начертали ее Сперанские,[73] а в том виде, как она отображалась в фантазии гениального юноши, поклонника Жорж Санд и Гюго, который только что с радостной болью вкусил запретного плода социализма, и притом не столько доктрины, сколько именно поэзии, утопии социализма.[74]
Вместо идеального строя, где все так целесообразно, так гордо-великолепно, — смешная канцелярия с ее чинопочитанием и низкопоклонством; вместо сознательного, любимого труда — бессмысленное корпенье над никому не нужным делом; вместо апофеоза желаний и страстей свободного человека — идеал, нет, зачем идеал, — образец, правило, устав благонравия и благочиния, — и, вдобавок ко всему этому, полная беспомощность человека, беспомощность целых поколений, которые знают об окружающей их жизни не более того, что знают о ней животные, но не имеют при этом ни их хоботов, ни их когтей и ни их клыков.