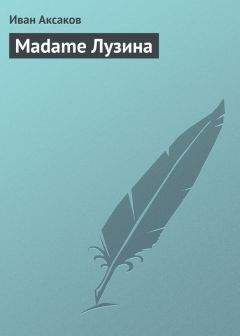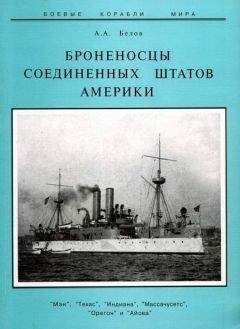Вальтер Скотт - "Странствования Чайлд-Гарольда" (Песнь III), "Шильонский узник", "Сон" и другие поэмы лорда Байрона
Думается нам, что лорд Байрон будет не слишком польщен предоставляемой ему возможностью укрыться за той безответственностью, какую француз приписывает политическим взглядам поэтов. Но если он станет отвергать и защиту, основанную на том, что порой трудно отказаться от заманчивого сюжета или от удовольствия отстаивать парадоксальную мысль, то ему будет не легко избежать упрека в непоследовательности. Ибо сравнивать Ватерлоо с битвой при Каннах и утверждать, что кровь побежденных пролилась за дело свободы, — это значит вступать в противоречие не только со здравым смыслом и общим мнением, но и с личным опытом лорда Байрона — опытом, которым он же сам поделился с публикой.
В своих предшествующих странствованиях Чайлд-Гарольд видел в Испании, каков образ действий «тирана и его рабов». Он видел, как «Галльский коршун распростер крыла», и с негодованием увещевал Судьбу, грозящую гибелью испанским патриотам:
И всем погибнуть? Юным, гордым, смелым?
Чтоб деспот наглый стал вдвойне спесив?
Лишь смерть иль быть должны уделом?
Пасть или жить, бесчестьем жизнь купив?
Чайлд-Гарольд видел места, которые он воспевает, но как мог он сравнивать с полем Канн равнину Ватерлоо, как мог, словно об утрате свободы, скорбеть о падении тирана, его военных сатрапов и рабов, своим оружием утвердивших его власть? Мы знаем, каков будет ответ тех немногих людей, которые, лелея свои предрассудки либо преследуя личные цели, поддерживают столь нелепое утверждение. Они проводят различие между Бонапартом-тираном, который пал в 1814 году, и Бонапартом-освободителем, воскресшим в 1815-ом. Немногие месяцы, проведенные на острове Эльба, якобы образумили его и подавили в его душе жадное честолюбие, для которого даже Россия была недостаточно велика, а Гамбург не казался слишком маленьким кусочком; то самое честолюбие, не испарившееся под жгучим солнцем Египта, не замерзшее в полярных снегах, пережившее потерю миллионов солдат и неизмеримой территории, столь же свирепое во время конференции в Шатильоне, где судьба деспота колебалась на чаше весов, как и в Тильзите, когда участь противника, казалось, была уже предрешена.
Весь опыт, какой Европа приобрела ценой океанов крови и годов упадка, должен быть, по мнению этих господ, предан забвению ради пустых обещаний человека, который, не колеблясь, нарушал свои клятвы (где бы и когда бы он их ни давал), если выгода или честолюбие толкали его на это.
Вернувшись с острова Эльба, Бонапарт заверял весь мир, будто он изменил свой нрав, образ мыслей, намерения. А его старый приспешник и министр (Фуше из Нанта) готов был тут же поручиться за него, как Бардольф — за Фальстафа. Когда Жиль Блас обнаружил, что его старые сообщники по мошенничеству дон Рафаэль и Амбросио Ламела управляют доходами одного картезианского монастыря, он тонко заметил, что сокровища святых отцов находятся в немалой опасности, причем обосновал свое подозрение старинной пословицей: «Il ne faut pas mettre a la cave un ivrogne qui a renonce au vin».[17] Но когда Франция дала яркие доказательства стремления вернуть то, что она называла своей славой, и, изгнав короля, чье правление исключало войны с другими странами, призвала обратно Наполеона, для которого нападать на соседей — все равно что дышать, — тогда Европу стали осуждать за то, что, собрав все силы, она обеспечила свою безопасность и смирила оружием тех, кто почитал оружие единственным законом, а битву — единственным веским доказательством, хотя, уступи она в этом споре, ее следовало бы увенчать «короной — колпаком шута».
Нам не верится, что существует хоть один человек, который мог бы серьезно усомниться в справедливости сказанного нами. Если и были простаки, готовившиеся приветствовать свободу, восстановленную победоносным оружием Бонапарта, то их ошибка (когда бы лорд Веллингтон не спас их от ее последствий) поставила бы их в положение бедняги Слендера, который, бросившись в объятия Анны Пейдж, неожиданно для себя очутился в руках неуклюжего почтмейстерова сынка.
Но, по всей вероятности, нет глупца, который питал бы такие надежды, хотя и есть — пусть в малом числе — люди, чье мнение об европейской политике настолько тесно и неуклонно связано с их партийными предрассудками во внутренних делах, что в победе при Ватерлоо они видят лишь триумф лорда Каслри, а если бы события приняли иной оборот, они скорее подумали бы о вероятных переменах в церкви святого Стефана, нежели о возможности порабощения Европы.
Таковы были те, кто, прикрывая, быть может, тайные надежды показным унынием, оплакивали безумство, осмеливавшееся противостоять Непобедимому, у которого якобы военные планы основаны на расчетах, заведомо непостижимых для прочих смертных; таковы и те, кто ныне открыто оплакивает последствия' победы, которую они же, наперекор упрямым фактам, провозглашали невозможной.
Но, как мы уже указывали, мы не можем проследить в писаниях лорда Байрона сколько-нибудь последовательной приверженности к определенным политическим убеждениям; нам кажется, что он изображает явления, имеющие общественный интерес с той стороны, какая случайно предстала ему в данный момент. Надо еще добавить, что обычно он рисует их в теневом аспекте, для того, вероятно, чтобы они гармонировали с мрачными красками его пейзажа.
Как ни опасно заниматься прорицанием, мы почти готовы предсказать, что если лорду Байрону суждена долгая жизнь (а этого мы желаем и ради него и ради нас самих), то в последующих его произведениях встретятся, вероятно, более благоприятные высказывания о морали, религии и конституции его страны, нежели те, которые до сих пор он излагал в своих поэмах. Если же не сбудется эта надежда, которую мы искренне лелеем, то осмеянию за ложное пророчество подвергнут, разумеется, нас, но проиграет от этого сам лорд Байрон.
Хотя в «Чайлд-Гарольде» и нет прославления победы при Ватерлоо, там есть прекраснейшее описание вечера накануне битвы у Катр-Бра — тревоги, поднявшей войска, спешки и замешательства перед их выступлением. Мы не уверены, что можно отыскать на нашем языке стихи, которые превосходили бы по силе и чувству приводимые ниже.
Опять длинная цитата, но мы не должны, не смеем ее сокращать.
XXI Ночь напролет гремел блестящий бал:
То собрала бельгийская столица
Красу и Доблесть. Пламень люстр сиял
На дамские и рыцарские лица…
Сердца блаженно бьются. Вереница
Волшебных звуков зыблет сладкий сон,
И взор любви в ответный взор стремится.
Все весело, как свадебный трезвон,
Но тише: дальний гул, как похоронный стон.
XXII Слыхали?! Нет: то буря взвыла где-то,
То воз прогрохотал по мостовой…
Танцуем же! Ликуем до рассвета!
Кто спать пойдет, коль быстрою стопой
Часы мчит Юность в танец вихревой?
Но — тише! Снова этот гул знакомый,
Как будто эхо в туче грозовой,
Но ближе — полный смертною истомой!
К оружию! Скорей! То — пушек рев и громы!
XXIII В оконной нише в пышном зале том
Сидел злосчастный Брунсвик одиноко;
Средь бала первым различил он гром
И смерть в нем слышал с чуткостью пророка,
Все улыбались: это ж так далеко;
Он сердцем слышал роковой сигнал,
Отца его в кровавый гроб до срока
Позвавший. Кровью мстить он пожелал
И в битву ринулся и в первой схватке пал.
XXIV Рыдания и слезы всюду в зале…
Волненье к крайней подошло черте.
И бледность лиц, что час назад пылали,
Румянясь от похвал их красоте,
И судорожные прощанья те,
Что душат жизнь в сердцах, и вздохи эти
Последние: как знать, когда и где
Опять блеснут глаза, друг друга встретя,
Коль тает ночь услад в несущем смерть рассвете?
XXV Коней седлают спешно; эскадрон
Равняется, и с грохотом крылатым
Упряжки мчатся; боевых колонн
Ряды спешат сомкнуться строем сжатым;
Гром дальних пушек стелется раскатом;
Здесь дробь тревоги барабаны бьют,
Еще до зорьки сон спугнув солдатам;
Толкутся горожане там и тут,
Губами бледными шепча: «Враги идут!»
XXVI «Клич Кэмрена» пронзительно и дико
Звучит, шотландцев боевой призыв,
Грозивший саксам с Элбинского пика;
Как в сердце ночи резок и криклив
Лихой волынки звонкий перелив!
И снова горцам радость битв желанна;
В них доблесть дышит, память пробудив
О мятежах, бурливших неустанно,
И слава Доналда — в ушах всех членов клана!
XXVII Арденнский лес листву склоняет к ним,
Росинки слез роняет им на лица,
Как бы скорбя, что стольким молодым,
Презревшим смерть, — увы! — не возвратиться;
Им всем вторая не блеснет денница,
Им лечь в бою примятою травой;
Но ведь трава весною возродится,
А их отваге, пылкой, молодой,
Врага сломив, сойти в холодный перегной.
XXVIII Вчерашний день их видел, жизнью пьяных:
В кругу красавиц их застал закат;
Ночь принесла им звук сигналов бранных;
Рассвет на марше встретил их отряд,
И днем в бою шеренги их стоят.
Дым их застлал; но глянь сквозь дым и пламя;
Там прах людской заполнил каждый скат,
И прах земной сомкнется над телами;
Конь, всадник, друг и враг — в одной кровавой яме!
Прекрасные элегические стансы, посвященные родственнику лорда Байрона, достопочтенному майору Ховарду, и несколько строф о характере Наполеона и о его падении заключают раздумья, навеянные полем Ватерлоо.