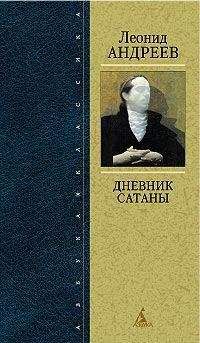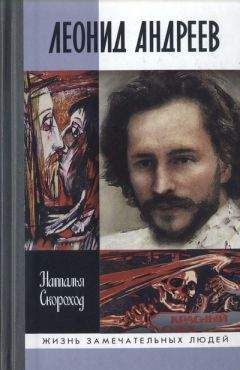Юлий Айхенвальд - Леонид Андреев
Впрочем, надо отметить, в виде нескольких примеров, те второстепенные детали, которые оставляют здесь впечатление жизненности.
Стражники в темноте целятся уже в будущих разбойников Сашу и Колесникова; но один из полицейских «видел блестящие пуговицы Сашиного гимназического пальто и, либо спросонок, либо по незнакомству с мундирами, принял его за офицера, выпрямился и крикнул сипловатым басом: „Здравия желаю, ваше благородие!“ Саша коротко и сухо бросил: „Здорово!“»
Это – маленькая сценка; но обмен приветствий между стражником и революционером полон значения, полон недоразумения…
Во время панихиды по гимназисту-самоубийце какой-то совсем незначительный человек с козлиной реденькой бородкой тычет по рукам гимназистов кучкой пылающие свечи и шепчет «Раздавайте!», а сам, все так же на ходу, уверенно и громко отвечает священнику: «Господу помолимся! Господу помолимся!» А этот священник сказал такую простую речь, заморгал выцветшими глазами и добрым голосом произнес: «Господа гимназисты! Как же это можно? А как же родители-то ваши, господа гимназисты! Как же это так, да разве это можно! Ах, господа гимназисты, господа гимназисты!»
Приходит конец лесным братьям; их усиленно разыскивает полиция и войско. «Словно чья-то огромная лапа, не торопясь и даже поигрывая, ползала по уезду вдогонку за лесными братьями, шарила многими пальцами, неотвратимо проникала в глубину лесов, в темень оврагов, заброшенных клетей, нетопленых, холодных бань…» Приходит конец и атаману лесных братьев, Сашке Жегулеву. Он знает это и идет в город, чтобы проститься с матерью и сестрой, т. е. посмотреть на них в окно, еще раз, в последний раз, увидеть родные лица, родную обстановку. Вот стол, крытый скатертью, чайная посуда. «Но что-то странное смущает его, какие-то пустяки: то ли поваленный стакан, и что-то грязное, неряшливое, необычное для ихнего стола, то ли незнакомый узор скатерти… И вдруг, непонятный в первую минуту до равнодушия, вступает в поле зрения и медленно проходит через комнату, никуда не глядя, незнакомый старик, бритый, грязный, в турецком с большими цветами халате»… Вместо матери и сестры, вместо родных и нежных лиц – чужой старик в халате. Мать и Леночка куда-то уехали, переменили квартиру, и не с кем прощаться.
Но удачные подробности всегда затеряны у Леонида Андреева в ненужном и неверном, и мозаика их не соединяется в целую картину. И если бы еще чувствовалось, что сам автор как-то растерялся в сложности, в извилинах и противоречиях человеческого духа, подавлен ими – и вот все их наивно и беспомощно показывает читателям; но нет: Андреев считает себя знатоком всех этих изгибов и тонкостей, в этом труднопроходимом царстве он уверенно берет на себя роль проводника, держит себя как провидец этих мистерий и тайн – между тем именно здесь и оказывается, что сам проводник еще более слеп, чем другие. На него положиться нельзя, и только рождается глубокое сожаление, что какая-то «длань незримо-роковая» преломляет его творчество и заставляет его ухищренно играть впустую.
Разочарование идеалиста-ученого, одиночество в родной семье, профессор среди пошлости – эта тема «Профессора Сторицына» разработана уже в «Скучной истории» Чехова. И воспоминание о последней создает у читателя фон, губительный для Андреева. Чехову веришь, Андрееву – нет. Герой «Скучной истории» так рассказывает о себе, такими словами говорит, такую психологию в себе раскрывает, что не сомневаешься в избранности, в тонкой талантливости его духа; чеховский Николай Степанович, взысканный щедротами своего одаренного творца, имеет право на знаменитость и на свое упоминание о ней. Профессор же Сторицын не умен. И это видно не из того, что он сам так мужественно восклицает о себе: «О, дурак, дурак!» – и еще повторяет это самоопределение, несмотря на благородный протест жены: «Ты не смеешь так говорить про себя»… – нет, все поведение Сторицына, его совокупность беспощадно свидетельствуют о том, что автор профессору ума не предоставил. И пусть, как мы узнаем из пьесы, книга Сторицына выходит пятым изданием и вся Европа смотрит на него, читатель не разделяет вкуса Европы. Если бы Леонид Андреев задумал придать своему герою стиль архаический, уподобить его, например, профессору эстетики из «Обыкновенной истории» Гончарова; если бы в особенности он захотел посмеяться над ним, как посмеялся Достоевский над стариком Верховенским из «Бесов», то риторику Сторицына, его словесные ходули, его вещания о красоте можно было бы вполне принять. Но ведь буквальный и духовный текст андреевской драмы свидетельствует о том, что перед нами должна быть личность серьезная, трагическая, большой страдающий человек, и притом – не отодвинутый в старину, а наш живой современник. И вот, становясь на эту точку зрения, выбранную автором, приобщаясь к его замыслу, сейчас же испытываешь эстетическую обиду. И опять поражаешься, как Андреев не умеет ничего рассказать правдоподобно, как из реальности он делает неправду, быль превращает в небылицу. Он выдумкой компрометирует реальность, он искажает факты, и от этого действительность беднеет и бледнеет. Можно ли оспаривать жизненность того явления, которое наметил автор, – сиротство высокой души, ее страдания от окружающей неблагообразности и грубости? Между тем эту верную картину так нарисовал Андреев, что она потеряла всякую вероятность. Снова думаешь о Чехове: его Николай Степанович, профессор из «Скучной истории», так естествен; отцовская драма героя так понятна, и правдивыми штрихами написан образ его дочери, которая раньше, девочкой, любила мороженое, а теперь любит молодого человека Гнеккера, олицетворение оскорбительной пошлости; нежно и грустно звучит элегия разочарованного мужа и отца, который когда-то целовал пальчики своей маленькой любительнице мороженого и называл их: «сливочный… лимонный… фисташковый», а теперь к этой нравственно чужой барышне сам остается холоден, «как мороженое»… Но где у Чехова – печальная правда и легкие дорогие краски, там у Леонида Андреева – ложь и выдумка, литературная охра, что-то крикливое и дешевое. Над каждым «i» поставлены огромные точки, зажжены электрические вывески, все подчеркнуто – и потому из этого сплошного курсива ничто и не выделяется. Слишком достаточно, например, что профессор натолкнулся в жизни на узкий лоб своего сына. Андрееву, однако, этого художественно-ценного признака мало, и те речи, которые он диктует обладателю тесного лба, уже производят впечатление тенденциозной сочиненности, и принадлежат они автору, а не самому герою. И сцена, когда отец напивается пьяным и предлагает сыну поехать вместе «туда», – эта грязная сцена возмущает не только нравственное чувство, но и больше всего чувство правды. Таких страниц не прощает эстетическая брезгливость. Они безобразны потому, что неестественны; они безнравственны потому, что придуманы. Если бы профессор Сторицын был действительно пьян! Но хуже всего то, что он на самом деле трезв (т. е. трезв Андреев); хуже всего то, что его опьянение – фальшивое, театральное, литературное, с идеей; он ломается, он, по авторской воле, в самом охмелении озабочен тем, чтобы его оправдать, показать его глубокий смысл и трагическую красоту. «Приобщи меня к твоему ничтожеству, к великой грязи мира сего!» – восклицает он, совсем не пьяными устами обращаясь к сыну. Он кокетничает. Какое счастье, что это – не живой человек, что это – вымысел убогой фантазии! Она уже и тем обнаруживает свою бедность, что все преувеличивает и все – простите за вульгарность – «размазывает». Почти ни о чем не скажет автор один раз; он почти все повторит и на все пальцем укажет; он не довольствуется намеками, он делает подписи и надписи. И вот Сторицын не только пьянствует, но и свое опьянение мотивирует; и вот не просто его другой сын Володя дает Саввичу, любовнику своей матери, пощечину, а к этой пощечине готовятся и о ней говорят до и после, ее комментируют; и не то чтобы курсистка послала своему профессору цветы, а ее обычный букет поднят на высоту события чрезвычайного, и так долго нюхают ее цветы, и так много о них разговаривают, что для читателя они, как яд Анфисы, скоро выдыхаются и становятся нестерпимы. Усердно воздвигая пирамиду безвкусицы, Леонид Андреев не только утрирует характеры (например, вульгарность Саввича – какая-то нарочитая, преднамеренная, кричащая), но и любую деталь сейчас же возводит в куб. И этот «кубизм» автора нередко делает его героев смешными там, где он хотел бы представить их глубокомысленными. Так, профессор Сторицын в пафосе вздора, в экстазе своей глупости договаривается до изречения, что «есть грудные девочки, растленные, как проститутки». Потенциально, конечно, но все-таки – грудные девочки!.. От них уже, разумеется, недалеко до утверждения того же ученого, что его жена – дама «с грудью, которая могла бы вскормить тысячи младенцев, тысячи мучеников и героев, а питает только – Саввича». Тысячи младенцев… Мы уже сказали, правда, что Сторицын не умен; но автор все-таки мог бы отнестись к нему великодушнее, спасти его от гиперболизма, умерить его арифметику. Или чувство меры не присуще самому писателю? Или он сам думает всерьез, что профессор за часы, которые он потратил на беседы с женою, на духовное общение с нею, «за эти часы бесконечной работы… мог бы бросить в мир десятки книг»? Или он сам уверен, что, когда принесли цветы от барышни (все те же чрезвычайные цветы), Сторицын не мог не побледнеть и не произнести такого афоризма: «У нее не хватает силы поднять камень – и вот она приносит цветы»?..