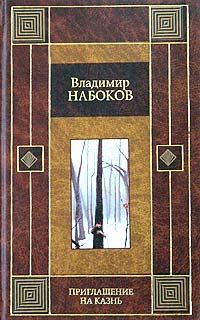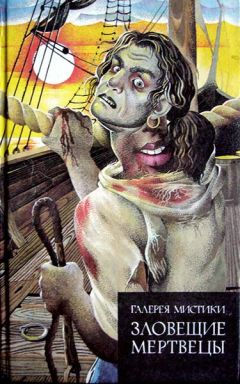Николай Добролюбов - Черты для характеристики русского простонародья
Но какое же именно направление может принять на практике это стремление к приобретению самостоятельности и свободы? Известно, что эти понятия самые неопределенные, и, может быть, ни одно из слов, обращающихся в разговорном обиходе человечества, не возбуждало столько споров, как слово «свобода». Ученые и философствующие люди доселе не могут окончательно согласиться в определении этого понятия; как же поймет его наш простолюдин? Многие уверяют, что, по глупости и необразованности своей, под свободой он будет разуметь возможность ничего не делать [, никого не слушаться], каждый день напиваться и буянить; [читатели наши уже знают, к какому разряду принадлежат люди, провозглашающие такое мнение{15}. Поэтому] мы [о них не станем распространяться, а] скажем только, что [эти] люди, отзывающиеся подобным образом о крестьянах, судят по себе, не принимая в соображение разницы условий, под которыми вырастают они и простолюдины. Для изучения этой разницы им опять надо обратиться к Марку Вовчку: у него найдут они поучительный рассказ в этом смысле, под названием «Игрушечка».
В «Игрушечке» рассказывается история развития прекрасной детской натуры, подобной Маше, но только натуры барской. Сравните оба рассказа, и вы увидите, как несравненно больше залогов правильного, здорового развития заключает в себе жизнь простолюдина, нежели жизнь барчонка или барышни. Там и требования проще, и цель ближе и определеннее, и самый способ рассуждения не так искажен. Самое печальное [и гибельное] искажение мысли простолюдина состоит в том, что он теряет ясное сознание [своих человеческих прав,] своей личной самобытности и непринадлежности никому другому. [На этом пути он действительно доходит до величайших нелепостей, насильственно убивая в себе самые законные требования и стремления своей природы.] Но так как природные требования всегда сохраняют известную долю силы над человеком, то всегда есть надежда навести бедняка на правильную точку зрения. А как скоро уж он на эту точку станет, – он ее применит и к делу; в этой практичности состоит особенность крестьянской мысли [, и в этом заключается ее сила]. Мы обыкновенно философствуем для препровождения времени, [иногда для пищеварения,] и большею частью о предметах, до которых нам дела нет [и которых мы никаким образом изменить не в состоянии, да и не намерены]. Крестьянину вовсе не до такой умственной роскоши; он человек рабочий, он задумывается над тем, что может иметь отношение к его жизни, и задумывается именно для того, чтобы в душе своей найти основание для практической деятельности. Припомните, о чем рассуждала, чего допытывалась Маша и к чему ее привели все ее размышления. [Нам кажется, что в ее лице автор весьма удачно выставил главнейшие вопросы, с которых должна начинаться работа мысли в целом сословии. Первый вопрос, разумеется, должен касаться личной неприкосновенности: «Что же это такое? Я не хочу, а меня тащат; зачем – неизвестно, по какому праву – непонятно; этого не должно быть». В таком простом рассуждении заключается уже зародыш всех возможных прав и гарантий общественных. Известен процесс мышления: когда я хочу объяснить чей-нибудь поступок со мной, я ставлю самого себя на место другого и стараюсь придумать, что могло бы заставить меня на этом месте поступить таким образом; если никаких достаточных мотивов не оказывается, я признаю поступок несправедливым. Поэтому,] если ребенок задумывается над тем, по какому праву другие посягают на его личность, и кончает тем, что не находит тут никакого права, то уже в этом рассуждении вы находите гарантию того, что в ребенке нет наклонности посягать самому на чужую личность. [Таким образом, люди, восстающие против насилия и произвола, тем самым дают уже нам некоторое ручательство в том, что они сами не будут прибегать к насилию и не дадут простора своему произволу;] желание неприкосновенности для своей личности заставляет уважать и личность других. Конечно, и в людях, действующих произвольно и насильственно, надобно тоже предполагать присутствие некоторого желания, чтобы с ними не поступали так, как они с другими; но позволительно думать, что, вследствие совершенно уродливого развития, даже это желание в них не довольно сильно и притом подвержено множеству ограничений. [Замечено, что люди, гордые и деспотичные с низшими, почти всегда являются подлыми ласкателями и беспрекословными овечками перед высшими. Замечено также, что самые неумолимые, самые несносные управляющие в помещичьих имениях бывают из лакеев и что вообще лакеи себя держат пред мужиками гораздо высокомернее, чем их господа. Читатель может сам дополнить эти наблюдения еще несколькими примерами из более обширного круга, и он непременно придет к заключению, что употребление насилия над другими заглушает или по крайней мере очень ослабляет в человеке способность истинно и глубоко возмущаться против насилия над ним самим. В последнее время мы видели, правда, что люди, весь свой век не знавшие другого закона, кроме произвола, вдруг начали кричать против произвола, когда он задевал их интересы. Но зато эти люди обыкновенно покричат, пошумят, да и отстанут: энергически, деятельно защищать то, что они считают своим правом, они не могут, потому что сознание права вообще у них очень потускнело и стерлось.
Итак, первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности.] Рядом с понятием о неприкосновенности личности [неизбежно] является и понятие об обязанности и правах труда. «Я не имею права на стеснение чужой личности, так как никто не имеет права стеснять меня самого; значит, я не могу рассчитывать жить на чужой счет: это значило бы отнимать у других плоды их трудов, то есть насиловать, порабощать их личность. Стало быть, я необходимо должен заботиться сам об обеспечении своей жизни, должен работать: живя своим трудом, я не буду иметь надобности отнимать чужое и вместе с тем, имея материальное обеспечение, буду иметь средства постоянно сохранять свою собственную независимость». Таковы простейшие соображения, из которых вытекает обязанность трудиться, ясная, как день, для всякого простого человека. И эти соображения не выдуманы нами теоретически: они [прочно и глубоко] лежат в душе [каждого] простолюдина. Ему, обыкновенно, даже и в голову не приходит, чтобы можно было жить на свете, ничего не делая: так оно далеко от этого на практике. Скажите любому крестьянину в рабочую пору, чтоб он отдохнул, бросил работу, вы получите простой ответ: а где ж мы хлеба-то возьмем? Не поработаешь, так и не поешь.
Стоит только обернуть рассуждение, приводящее к мысли об обязанности работать, и мы получим вывод о правах труда. «Если я должен работать для своего обеспечения, потому что не могу и не должен воспользоваться плодами трудов моего соседа, то очевидно, что и сосед должен иметь в виду то же самое соображение. Он должен работать для себя, и я никак не хочу и не считаю справедливым отдавать ему то, что я заработал». И вот мы прямо приходим к требованиям и решениям к которым пришла Маша у Марка Вовчка и которые в известной степени проявляются во всем крепостном населении русском. «Что мне работать на других? Лучше я ничего не буду делать», – так рассуждают люди, лишенные [полных] прав на свой труд, и – [или] вовсе отказываются от труда, где можно, как Маша, [например,] или стараются употреблять как можно меньше усилий и усердия для чужой работы, как делают помещичьи крестьяне вообще [по всей России]. Отсюда мы можем сделать простой вывод о том, куда направятся крестьянские силы, как скоро они получат право свободно располагать своим трудом: как Маша, при первой вести о возможности свободы, закричала, что она работать будет, хоть закабалит себя, только бы заработать свой выкуп, так точно и целая масса, после освобождения, обратится к усиленному труду, к заботам об улучшении своего положения. Теперь ведь уж весь труд освобожденного работника – его, ему принадлежит [неотъемлемо]; значит, чем больше он потрудится, тем больше и приобретет, тем лучше будет и его положение. При таких условиях даже и временное лишение личной свободы не так тяжело. Замечательно, что Маша для приобретения свободы хочет закабалить себя: это значит, что для нее главным образом не то тяжело, что она не может делать всего, что хочет, а то горько, что она должна отречься от прав на свой труд без всякого резона, бог весть зачем. Отдавая себя в кабалу, она знает, что тут условия делаются обязательными с обеих сторон; она будет в кабальной работе, а за нее зато выплатят выкуп. [Таким образом, для нее видно здесь начало и основание ее рабства; да виден и конец, и притом конец, до некоторой степени все-таки сообразный со смыслом, так как кабальный термин рассчитывается пропорционально величине уплаты и стоимости работы закабаленного. Ничего подобного не было в том состоянии, под которым жила Маша у своей барыни: там ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода, ни смысла, ни расчета – один только произвол и вследствие того полное отсутствие всяких личных гарантий и определенных прав; что захотят, то с тобой и сделают, без резона, без отчета, без ответа… Это-то всего более и невыносимо для человека, у которого хоть чуть-чуть начинает просыпаться требование справедливости, от природы присущее всем людям, но во многих заглушаемое принижением и придушением их личности.]