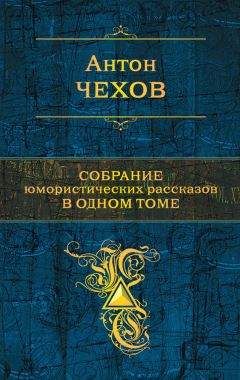Виссарион Белинский - Менцель, критик Гёте
Дело Питтов, Фоксов, О'Конелей, Талейранов, Кауницев и Меттернихов – участвовать в судьбе народов и испытывать свое влияние в политической сфере человечества. Дело художников – созерцать «полное славы творенье» и быть его органами, а не вмешиваться в дела политические и правительственные. Иначе придется воскликнуть:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник!
Все велико на своем месте и в своей сфере, и всякий имеет значение, силу и действительность только в своей сфере, а заходя в чужую, делается призраком, иногда только смешным, иногда отвратительным, а иногда смешным и отвратительным вместе, подобно Менделю. Может быть, Мендель был бы хорошим чиновником при посольстве или даже и депутатом города или сословия, потому что, может быть, он в этом и знает что-нибудь и способен на что-нибудь; но он не может быть даже и посредственным критиком, потому что ровно ничего не смыслит в искусстве, не имеет никакого органа для принятия впечатлений изящного. Он судит об искусстве, как слепой о цветах, глухой о музыке. Воду нельзя мерять саженями, а дорогу ведрами: нельзя по политике судить об искусстве, ни по искусству о политике, но каждое должно судиться на основании своих собственных законов.
Есть еще и другая фальшивая мерка для искусства – тоже принятая Менделем, который, в отношении к ней, имел, имеет и всегда будет иметь еще более подражателей. Мы говорим о нравственной точке зрения на искусство.
Это вопрос глубокий и важный. Сколько позволяют пределы статьи, намекнем на его бесконечное значение.
Нравственность принадлежит к сфере человеческих действий, и в отношении к воле человека есть то же самое, что истина в мышлении, что красота в искусстве. Основание нравственности лежит в глубине духа – источника всего сущего. Все, что выходит из одного начала, из одного общего источника – все то родственно, единокровно и нераздельно в своей сущности, хотя и различается средством, путем и формою своего проявления. Следовательно, отделить вопрос о нравственности от вопроса об искусстве так же невозможно, как и разложить огонь на свет, теплоту и силу горения. Но поэтому-то самому и должно разделить эти два вопроса. Когда вам сказали, что в камине разведен огонь, – вы, верно, не спросите, обожжет ли этот огонь ваши руки, если вы положите их на него, – и будут ли вам видны предметы, освещенные им. Такой вопрос приличен только или ребенку, едва начинающему говорить, или человеку сумасшедшему. Когда вам говорят, что женщина родила дитя – вы, верно, не спросите, есть ли у этого дитяти тело, или есть ли у него душа: когда он жив, у него есть и душа и тело, ибо он сам есть не что иное, как явившийся или воплотившийся дух. Но вы можете сделать вопрос – об огне, разведен ли он в камине, чтобы мог и греть и освещать, или еще только разводится; а о младенце – жив ли он, или родился мертвым, или умер родившись. Итак, видите ли: вы разделяете два вопроса именно потому, что они неразделимы, что ответ на один есть уже необходимо и ответ на другой, хотя бы вы другого и не делали. Так и в искусстве: что художественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, то может быть не безнравственно, но не может быть нравственно. Вследствие этого вопрос о нравственности поэтического произведения должен быть вопросом вторым и вытекать из ответа на вопрос – действительно ли оно художественно. Произведение искусства, художественность которого не выдержит высшей пробы вкуса и критики, может быть положительно безнравственно, как оскорбляющее нравственность, и может быть отрицательно безнравственно, как только неоскорбляющее нравственности; но всякое истинно или действительно художественное произведение не может не быть положительно нравственным. Доказать, что произведение искусства положительно безнравственно – значит доказать, что оно положительно нехудожественно, а для этого сперва должно рассмотреть его в его собственной сфере, то есть в сфере искусства, и доказать, из него же самого, что оно нехудожественно, или по крайней мере прежде вопроса о нравственности принять это за утвержденное и очевидное. Единосущное не противоречит единосущному, и истина не разделяется на самое же себя, чтобы уничтожать самое же себя.
Нам возразят, что наше воззрение противоречит опыту, ибо есть множество произведений искусства, которые целыми веками и народами признаны за художественные, но которые тем не менее безнравственны, и наоборот, есть множество произведений, слабых с художественной стороны, но в высшей степени нравственных.
Для ответа на подобное возражение, имеющее всю силу внешней очевидности, должно условиться в значении слов «художественное» и «нравственное». Но как решение подобного важного и глубокого вопроса повело бы нас слишком далеко, то и ограничимся только тем, что слегка поговорим о значении «нравственного», оставляя без разрешения «художественное», как будто определенное и всем известное.
Не все то принадлежит к сфере «нравственного», что называют «нравственным» (Sittlichkeit), смешивая с ним понятие «морального» (Moralitat). Нравственность относится к моральности, как разумный опыт жизни к житейской опытности, как высокое к обыкновенному, трагическое к повседневному, как разум к рассудку, мудрость к хитрости, искусство к ремеслу. Жизнь человеческая разделяется на будни, которых в ней много, и праздники, которых в ней мало. В жизни человека бывают торжественные минуты, в которые все – победа, или все – падение, и нет середины. Это минуты борьбы его индивидуальной особности, требующей личного счастия или личного спасения, с долгом, говорящим ему, что он вправе стремиться к счастию или спасению, но не на счет несчастия или погибели ближнего, имеющего равное с ним право и на счастие, если оно ему представляется, и на спасение, если ему грозит беда. Воля человека свободна: он, вправе выбрать тот или другой путь, но он должен выбрать тот, на который указывает ему разум. Если он послушается голоса своей личности, требующей всего себе, и останется спокоен в духе своем – он будет прав в отношении к самому себе, хотя и виноват в отношении к разуму, которого законов он не в состоянии постигать: тогда не будет осуществления нравственного закона, за нарушение которого кара внутри человека, но тогда, может быть, осуществится только моральный закон, за нарушение которого наказание вне человека, как возмездие гражданского закона или как личное мщение со стороны оскорбленного. Объясним это примером, который сделал бы нашу мысль осязаемою очевидностию. Молодой человек увлекся мимолетным и скоропреходящим чувством любви к девушке, которая могла только доставить ему несколько минут блаженного упоения, но не удовлетворить вполне всех потребностей его духа, но не быть половиною души его, жизнью сердца, – словом, которая могла быть только его любовницею, но не женою. Теперь положим, что эта девушка, не имея такой глубокой натуры, как он, и будучи ниже его и своими понятиями, чувствованиями, потребностями, и образованием, тем не менее была бы существом, достойным всякого уважения, могла бы составить счастие целой жизни равного себе по натуре и образованию человека, быть верною, любящею женою и матерью, уважаемою в обществе женщиною. Девушка эта, не видя и не понимая своего духовного неравенства с этим молодым человеком, однакож любит его страстно, предана ему до самоотвержения, до безумия, и уже мать его дитяти. Она не подозревает и возможности конца своему счастию, ее любовь все сильнее и сильнее; а он уже просыпается от сладкого упоения страсти, он уже с ужасом не находит в себе прежней любви, он уже не в силах отвечать на ее горячие лобзания, на ее ласки, прежде столь обаятельные, столь могучие для него… Она вся любовь, упоение, нега; он весь тяжелая дума, тревожное беспокойство. Наконец ему нет больше сил притворяться, тяжело ее видеть, страшно о ней вспомнить. А между тем как бы назло самому себе, как бы для усугубления своих страданий, он понимает все ее достоинства, ценит всю ее любовь и преданность к нему, даже видит в ней больше, нежели что она есть в самом деле. Он проклинает и презирает себя, не видит в мире никого гнуснее и преступнее себя; он называет себя обманщиком, вором, подло укравшим любовь и честь женщины; о прошлых своих уверениях и клятвах любви он воспоминает как об умышленном, обдуманном вероломстве, забыв, что, в то время восторгов и упоений, он говорил и клялся искренно, горячо верил действительности своего чувства. Отчего же этот внутренний раздор, отчего это внутреннее раздвоение с самим собою, этот жгучий огонь в груди, эта мука, эта пытка души?.. Ведь эта девушка только тихо плачет, безмолвно изнывает в безотрадной тоске отвергнутого и оскорбленного чувства? Ведь она не грозит ему законами, не преследует его упреками, не беспокоит его требованиями, и потому страшная тайна останется между ими, и ему нечего страшиться ни мщения гражданского закона, ни даже суда общественного мнения? – Но от всех этих утешений его страдания только глубже и мучительнее: безропотное страдание жертвы возбуждает в нем только большее уважение к ней и большее презрение к себе; а безопасность внешнего наказания только больше увеличивает в его глазах собственное преступление. Отчего же это? – Оттого, что сердце этого молодого человека есть почва, в которую закон нравственного духа так глубоко пустил свои корни, что он может их вырвать только с кровию и телом, а следовательно, и с потерею собственной жизни. Он оскорбил не ходячие нравственные сентенции: он оскорбил достоинство собственного духа, нарушил незримо, но ощутительно пребывающие в его сущности законы его же собственного разума. Что же ему останется делать? Жениться на ней – скажете вы? Но для таких людей чувствовать подле себя биение сердца, трепещущего любовию, чувствовать сжатие чьих-то горячих объятий и оставаться холодным, мертвым… ужасно! Для трупа объятия живого существа то же, что для живого существа объятия трупа… Когда мы не связаны с существом, на любовь которого не можем отвечать, мы уважаем его, сострадаем ему, плачем и молимся о нем; но когда мы связаны с ним неразрывными узами брака, и его страстная любовь вызывает нашу, которой в нас нет, мы отвечаем ему на нее ненавистию… Что же тут делать?.. Иногда подобные трагические столкновения разрешаются просто, во вкусе мещанской драмы: красавица пострадает, а потом допустит утешить себя другому, который заставит ее забыть горе для радости; но что, ежели в то время, как он борется с собою и носит в душе своей ад, в самом разгаре этой безвыходной борьбы, до слуха его дойдет страшная весть, что она умерла, благословляя его, и его имя было ее последним словом?.. Неужели после этого для него возможно счастие на земле? А если и возможно, неужели на нем не будет какого-то мрачного оттенка? Неужели в часы упоения любви, из-за того юного, прекрасного и полного жизни существа, которое так роскошно осенило лицо его волнами длинных локонов, ему не будет иногда являться какой-то бледный, страдальческий призрак, с любовию в очах, с благословением на устах?.. Из той же возможности могла родиться и другая действительность: он мог, идя по улице, увидеть толпу народа около какого-то трупа женщины, сейчас вытащенного из реки… Страшно!.. Человеческая природа содрогается перед таким бедствием… Что же значит это бедствие? Ведь он мог не признать трупа, мог пройти мимо, не боясь мщения закона?.. Нет, есть другой закон, еще ужаснее закона гражданского, закон внутренний, в нем самом пребывающий, закон нравственности, – и этот-то закон карает его. Бывали примеры, что преступники, убийцы являлись в суд и признавались в преступлениях, давно совершенных, давно забытых, в которых их и тогда никто не подозревал, и, как облегчения своих страданий, просили казни. Видите ли, какой страшный закон, этот нравственный закон, и как страшно его наказание: самая казнь, в сравнении с ним, есть облегчение, милость!.. Но, повторяем, он не для всех существует, потому что он в духе человека, а не вне его, и в духе только глубоком и могучем… Обратимся к нашей истории. Она могла бы кончиться и не так эффектно, но не менее ужасно. Молодой человек мог бы решиться пожертвовать собою для искупления своей вины, – страшная решимость! Но что, если бы он услышал такой ответ на свое великодушное предложение: «Я хочу любви, а не жертвы; я лучше умру, нежели быть в тягость тому, кого люблю…»? Вот тут уже совершенно нет выхода из двух крайностей: и себя погубил и ее погубил… А между тем эта погибель совсем не внешняя, не случайная, но есть осуществление возможности, которую он же сам родил своим поступком. Мы выше сказали, что дело точно так же могло кончиться очень хорошо для обеих сторон, как кончилось худо: из этого видно, что сущность дела не в совершении, а в возможности совершения. Проступок оскорблял нравственный закон; следовательно, необходимо условливал возможность наказания, хотя оно могло бы и миновать. Итак, в «возможности» лежит внутренняя, действительная сторона события, потому что только внутреннее действительно и только действительное велико. Отсюда важность и трагическое величие осуществления нравственного закона. Кончись эта история хорошо – и молодой человек счастлив, и никто бы не осудил его, кончилось оно дурно – и все голоса против него…