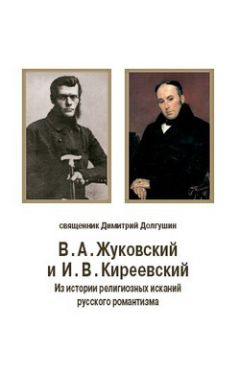Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
4. Столкновение двух тенденций: предварительный обзор
Тяга к дематериализации и «истончению» мира, о которой пишет Флоровский, по сути дела, подытоживалась главной из официальных масонских добродетелей – «любовью к смерти». Разумеется, она не была прерогативой одного лишь масонства, поскольку, вообще говоря, предопределялась парадигматическим сюжетом о самопожертвовании Спасителя, добровольно умершего за все человечество: «Жизнь Мою полагаю за овец <…> Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин 10: 15, 18). В сентименталистский и предромантический период тему этой добровольной гибели педалировал для русских читателей, например, Клопшток устами своего переводчика Алексея Кутузова (переложившего текст прозой): Христос «предает себя на самопроизвольную смерть, на смерть ходатая»[58]. Однако такая «самопроизвольная смерть» явно граничила с самоубийством, которое та же христианская традиция безоговорочно осуждала. Соответственно, воля к гибели, стимулированная христианством и одновременно им табуированная, обретала как бы отсроченное решение или завуалированные формы – хотя сентиментализм вводит и моду на прямой суицид.
«Любовь к смерти» явственно просвечивала в готическом и оссиановском компонентах русского сентиментализма, в его «вертеровских» привязках[59] и, конечно же, санкционировалась древнехристианской аллегорикой горестного плавания по морю житейскому к спасительной загробной пристани. Пиетистская и смежная с ней культура последних десятилетий XVIII в. в России чрезвычайно обострила интерес к этой метафоре, получившей, например, такое выражение в одном из тогдашних переводных сборников: «Если малая твоя ладия, по океану сего света плавая, от ужаса свирепых волн и противных ветров обуревается, то вспомни, что путь очень краток и опасности в скором времени не станет. И хотя воздух чуть помрачается, и пасмурное небо в трепет и уныние тебя приводит, однако будь благонадежен, что скоро твои глаза многосветное зрелище видеть удостоятся»[60]. Следует сплошной гимн страданиям и кончине.
В александровские времена такие панегирики необычайно размножились, в частности, благодаря переводам из г-жи де Ламот Гийон. В своем педагогическом трактате она призывала юношей к «умерщвлению чувств» и «обузданию природы чрез некоторые добровольные страдания» – словом, к крестовому походу против собственного тела; а победа в этой войне должна была увенчаться жертвенной смертью во Христе: «Кто не в силах перенести в едином чем умерщвление плоти своей, перенесет ли терпеливо смерть? Кто не научится презирать радости, обещанные ему миром, не перенесет и мук от того же мира, угрожающего ему»[61].
На рубеже XVIII–XIX вв. русская литература выказывала неизбывную зависимость и от настроений, столь внушительно нагнетавшихся в прославленной кладбищенской поэме Эдварда Юнга (правильнее было бы Янга – Young) или у его отечественных подражателей: «Блажен человек, который устраняется многих увеселений мятежного мира и <…> осмеливается посещать гробницы, читает надгробные надписи умерших, ценит их прах и с удовольствием проводит нощное время на кладбищах»[62]. Та же заповедь блаженства содержится в других переводных и оригинальных сочинениях, обильно расплодившихся в Александровскую эпоху. Вожделенная гробница могла быть даже передвижной, как это изображено у весьма популярной М.Ф. Жанлис. Я подразумеваю ее роман «Герцогиня де Лавальер» – тот самый, с которым не расстается скупщик мертвых душ у Гоголя (действие его поэмы приурочено к александровскому времени и несет на себе соответствующий идеологический отпечаток). Героине книги гроб служит привычной постелью. Приторочив его к своей карете в качестве клади, она переселяется, наконец, в кармелитский монастырь, решившись навеки расстаться с миром: «Она ничего не взяла из своих великолепных покоев, кроме гроба, который хотела поставить в келье своей; он был завернут в покрывало и привязан, как чемодан, позади берлина»[63].
А гораздо позже, уже на заре 1830-х гг., т. е. в период безраздельной гегемонии романтизма, Николай Греч в своей учебной хрестоматии переиздаст в качестве образцового сочинения пиетистский трактат И.-Л. Мозгейма «Как должно рассуждать о смерти», переведенный М. Каченовским: «Привыкайте заблаговременно смотреть на покров, под которым будет лежать бездушное ваше тело. Заглядывайте в могилу, в которую опустятся ваши кости <…> Не ленитесь быть часто между теми, которые, по кончине больного, приготовляют бездушное тело к погребению <…> Молите Господа Бога, да научит вас размышлять о смерти»[64]. Еще через четыре года эту кладбищенскую любознательность сам Греч подарит герою своего романа «Черная женщина», который наставляет приятеля: «Нам должно заранее знакомиться со смертью в разных ее видах, должно привыкать смотреть на нее не только равнодушно, но и с каким-то утешением душевным»[65]. Герой повести Егора Аладьина «Брак по смерти. Истинное происшествие» (1831), вдовец, ежедневно навещающий могилу жены, тоже душевно сроднится с некрополем: «Кладбище, многолюдная, но тихая столица смерти, как люблю я тебя! <…> Как приятны для моего сердца: свист ветра, шум обнаженных дерев и оклик верных могильных стражей – карканье воронов!..»[66]
Весь этот эскапистский настрой, хмурая вражда к дольному миру и экзальтированная ностальгия по тому свету, граничившая с некрофилией, находили, естественно, дружественный отклик в соответствующих тенденциях самого православия, санкционированных патристикой. Можно было бы, в частности, провести немало параллелей между юнговскими «Ночными думами» и вечерними «слезными молениями» или надгробными песнопениями Ефрема Сирина – параллелей, отчасти объясняемых пасторской эрудицией английского поэта. Неудивительно, что импортный погребальный сентиментализм надолго полюбился русским православным писателям – например, Игнатию Брянчанинову, при всей его ревнивой неприязни к чужим исповеданиям. Еще в 1840-х гг. эхо заморских ламентаций доносится в лирических упражнениях этого исихаста, выказывавшего литературные претензии, – в таких его сочинениях, как «Сад во время зимы», «Древо зимою пред окнами келии», «Думы на берегу моря», «Кладбище», «Голос из вечности (Дума на могиле)»[67]. Он же включает в свой «Отечник» речения Исаака Сирского, с которыми безоговорочно согласились бы и г-жа Гийон, и любой масонский панегирист смерти вроде Руфа Степанова: «Терпение предваряется ненавистью к миру. Ненависть к миру – страхом Божиим и вожделением Бога»[68].
Русский романтизм зародился именно тогда, когда масонские, теософские и пиетистские влечения обрели, вместе с деятельностью Библейского общества, государственный размах, воплощенный в правлении кн. А.Н. Голицына[69]. Но как бы к тому времени ни успели отдалиться многие русские интеллектуалы от родной церкви, православное вероучение, впитанное ими с детства, оставалось все же интимной основой их мировосприятия – причем основой, созвучной негативистской стороне «духовного христианства».
В масонско-пиетистской среде созревал, как известно, и провозвестник отечественного романтизма Жуковский[70], оказавший, в свою очередь, глубокое идеологическое воздействие на раннего Тютчева и на мистически ориентированных поэтов типа Федора Глинки. Последний без всяких внутренних помех сочетал масонскую выучку с истовым православием и исихастской техникой собирания ума в сердце для молитвенного экстаза. В лице этих и ряда иных авторов русский романтизм с 1820-х гг. воспринял дуалистические предпочтения и сопряженную с ними томительную ностальгию по небесному инобытию, путь к которому лежит через смерть. Наиболее употребительным способом замаскированного самоубийства станет гибель в бою: «Война! Война! Друзья, простите! Стрелой лечу в кровавый бой. Напрасно удержать хотите – Мне смерть отрадою одной! <…> Война! Война! Дышу тобою! – Спеши страданья прекратить!» (И. Великопольский, «Война»; 1820)[71]. Зато позитивно-созидательные аспекты «духовного христианства», включая его трудовую этику, у русских романтиков, как правило, энтузиазма не вызывали.
Не мешает напомнить, что влиятельнейшим рассадником религиозно-ностальгических настроений в александровскую пору был Московский университет, а равно его Благородный пансион – заведение, проникнутое масонским духом и вместе с тем знаменитое своим вкладом в развитие русской словесности. Некогда здесь воспитывался сам Жуковский, а потом, с 1816 по 1822 г. – кн. В. Одоевский[72]. Еще в начале века докторскую степень получил в Московском университете А. Погорельский, впоследствии приверженец масонства и зачинатель отечественной гофманианы[73]. С обоими этими учреждениями непосредственно связан был и Погодин (подпавший на время под умственную опеку Одоевского), – закончив в 1821 г. университет, он стал преподавателем пансиона.