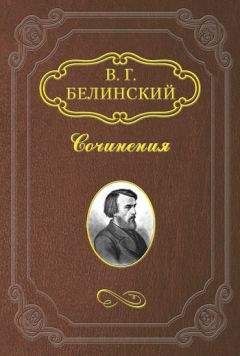Виссарион Белинский - Речь о критике
Высказав наше воззрение на искусство и критику и рассмотрев «Речь», подавшую повод к этой статье, – мы, в следующей статье, сделаем историческое обозрение русской критики, от начала ее до нашего времени.
Статья II
Историческое обозрение русской критики
Обозреть исторически ход и развитие русской критики – значит обозреть, в общих чертах, историю русской литературы, ибо, как мы уже сказали в первой статье, содержание критики, как суждение, есть то же самое, что и содержание литературы, как судимого; вся разница в форме. Художники литераторы выражают свое понятие об искусстве и литературе непосредственно, самыми творениями своими; критик выражает свое понятие об искусстве и литературе чрез посредство мысли, сознательно. В этом случае искусство и литература идут об руку с критикою и оказывают взаимное действие друг на друга. Если новый гений открывает миру новую сферу в искусстве и оставляет за собою господствующую критику, нанося ей тем смертельный удар, то, в свою очередь, и движение мысли, совершающееся в критике, приготовляет новое искусство, опереживая и убивая старое. Такое явление было в Германии, где литературный переворот совершился не чрез великого поэта, а чрез умного энергического критика – Лессинга. Так называемая романтическая школа, или юная литература Франции, водрузила свои победоносные знамена на завоеванной ею у псевдоклассицизма почве, едва ли не более при помощи критики, чем собственными усилиями. Жанен, некогда столь даровитый, а теперь столь пустой фельетонный крикун, горячо сражался против мертвой литературы империи еще прежде, чем написал свой роман «Мертвый осел и гильйотинированная женщина». И этот союз искусства с критикою со дня на день становится теснее и неразрывнее. Оттого теперь искусство становится мышлением в образах, а критика – искусством.
Русская литература была не плодом развития национального духа, а плодом реформы. Хотя Петр Великий ничего не писал и не издавал, подобно Екатерине II, но тем не менее он так же творец русской литературы, как и творец русской цивилизации, русского просвещения, русского величия и славы, словом – творец новой России. Написать историю русской литературы, не сказав ни слова о Петре Великом, – это все равно, что написать о происхождении мира, не сказав ни слова о творце мира. Русь до Петра кипела дикими и нестройными силами: его всемощное «да будет!» водворило порядок и гармонию в этом хаосе, дало боровшимся в нем элементам определенную форму и указало им цель. Уже более века прошло после смерти Великого; но Русь все еще движется от него, следовательно, и чрез него. Русь уже давно не та; Петр не узнал бы ее, если б мог взглянуть на нее из своего гроба. Русь уже не та, но и не другая. Так широколиственный дуб совсем не то, что жолудь, из которого он вышел; но он все же дуб, а не береза и не другое дерево; все же он вышел из жолудя и без жолудя не мог бы быть.
Реформа Петра вообще была искусственная, ибо совершилась не в сфере русской жизни и не ее собственными средствами, а посторонним посредством чуждой ей жизни. Однакож это может не нравиться только раскольникам и староверам; в глазах же людей, умеющих проникать в глубь явлений, это-то самое и свидетельствует о колоссальности гения творца новой России. Правда, можно много острого и забавного наговорить, например, о русских мужиках, вдруг, экспромтом, превращенных в подобие цесарских и прусских солдат, с выбритыми бородами, с пучками на затылках, в смешных мундирах XVII века, об этих солдатах, которые с трудом заучивали напамять немецкую военную терминологию, мудреные немецкие чины и звания; сверх того, нарвская битва могла служить прекрасным фактом против преобразований, но зато битва под Лесным заставляет разумников призадуматься, смешаться, прикусить язычок, как выразительно говорится по-русски; а полтавская битва лучше всяких доказательств, теоретических и философских, доказывает, что у гения своя логика, свой здравый смысл, свое ясновидение действительности, которые, чем менее подходят под суждения толпы, тем истиннее и действительнее. Реформа, повидимому, чисто внешняя, повидимому, состоявшая только в формах, могла казаться странною не только для русских, бывших ее жертвою, но и для тогдашней Европы; теория и практика, умозрение и опыт – все, повидимому, было против нее. Несчастное нарвcкое дело походило на порыв урагана, сдувший со стола карточный домик; оно всех убедило в невозможности улучшений – всех, кроме самого реформатора. Но под Лесным обстоятельства переменяются, и для неприятеля настает пролог трагедии, а при Полтаве разыгралась и самая трагедия.
Таким же точно образом много умного и остроумного можно наговорить о новых гражданских литерах, которым нечего было выражать собою; о заведенных им типографиях, которым нечего было печатать; о высших специальных учебных заведениях, когда еще негде было учиться грамоте; о проекте Академии наук, когда еще не было приходских и уездных училищ; словом, обо всем этом неестественном развитии сверху вниз, не снизу вверх, с крыши к фундаменту, не с фундамента к крыше. А между тем это-то и положило прочное основание русскому просвещению, ибо прежде всего дало учителей, без которых ученики не могут учиться. Каково бы ни было наше просвещение, на какой бы ступени не стояло оно и теперь, но надо быть слепым, чтоб не видеть, что оно все развивается, все идет вперед. Иначе, как бы могли у нас являться и полководцы, и моряки, и инженеры, и врачи, и математики? Давно ли было время, когда без иностранцев мы не в состоянии были сделать шагу? А теперь мы нуждаемся в Европе, но уже не в иностранцах; нам надо следить за успехами в Европе наук, искусств и промышленности, но не выписывать оттуда людей для заведения того и другого и третьего, как было прежде. Если же мы и теперь иногда нуждаемся в иностранцах и приглашаем их к себе, то такие случаи уже кажутся теперь исключениями из общего правила.
Не менее дельного, умного и острого можно наговорить (да и было уже довольно наговорено) о русской литературе, возникшей не из потребности общества, а из слепого подражания иностранным литературам.[9] И чего бы, в самом деле, можно было ожидать от этого сколка, списка, от этой копии с чужих образцов, от этого мертвого, бездушного, слепого подражания и передразнивания чужих мыслей и чужих форм? А между тем мы гордимся именами (конечно, еще немногими) национальных и самостоятельных поэтов – Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова… А между тем наша литература имела на общество великое и благодетельное влияние, как живой источник гуманического, человечественного образования…
Странное дело! как же такие живы следствия могли выйти из такой мертвой, чисто внешней, отвлеченно-формальной реформы? Здесь в том-то и дело, что только близорукие, ограниченные люди, да разве еще раскольники и староверы, поборники ложно понимаемой народности и дикого невежества, могут видеть в реформе Петра одно внешнее и формальное. Люди мыслящие, способные проникать взором своего разума в сокровенную глубь вещей, очень хорошо видят, что Петр старался не об одном внешнем европеизме, что он был столько же духовным, сколько и материальным реформатором. Его великий, зиждительный дух был источником его преобразовательной деятельности, – он начал реформу прежде всего с себя самого. Неумолимый к другим, он был еще беспощаднее к самому себе. Поставив идею правосудия выше личного произвола, он готов был бы самого себя отдать под уголовный суд, если б мог умышленно поступить неправо в деле государственной правды. Поставив идею государства выше личного значения, он бодро и неуклонно прошел длинную и тяжкую лествицу чиноначалия, был солдатом, юнгою и с такою страстию подчинялся повиновению, с какою в его возраст предаются обаянию властвования. Счастию России, ее будущности принес он в жертву своего сына, говоря, что лучше чужой да достойный, чем свой недостойный… Он искушал своих сановников, прося у них себе места, следовавшее достойнейшему его по службе, и сказал, что благо им, отказавшим ему в просьбе… Говоря о Петре, многие видят в нем больше реформатора и забывают колоссально-нравственный и религиозный дух, которого вся жизнь была страстным служением идее. А пафос к идее есть живой источник, из которого не могут не вытекать живые результаты. Если б Петр был только необыкновенно умный человек, только политический, а не религиозно-нравственный действователь, его реформа не имела бы таких великих следствий. Глубокое религиозно-нравственное начало, составлявшее основу его духа, в соединении с исполинскою гениальностью, – вот что оплодотворило и оживило реформу Петра, дало ей силу, прочность и жизненность… Но об этом можно было бы написать целую книгу; здесь мы говорим только вскользь, как о предмете, который имеет отношение к главной мысли нашей статьи и не составляет ее прямого содержания. Обращаемся к русской литературе, чтоб от нее перейти к русской критике.