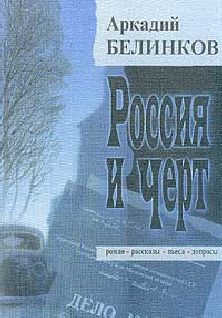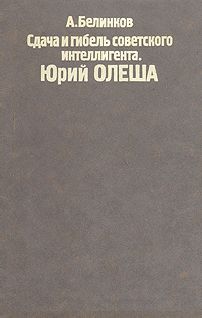Аркадий Белинков - Юрий Тынянов
Причины, вызвавшие все эти чудесные превращения, из которых главным было освобождение мелкого откупщика Конаки, долгое время оставались неизвестны.
«…Историки… становились в тупик…»
«Историк юридической школы колебался…»
«Психологическая школа, анализируя…»
Все они ошибались. Потому что дело заключалось в том, что «Варенька Нелидова вернулась к дисциплине» и между императором и Варенькой Нелидовой был восстановлен мир, а, «по своему рыцарскому пониманию мужских обязанностей, он (император. — А.Б.) и не мог изменить обещанию, данному женщине в такую минуту». Буржуазная историческая наука, таким образом, сводится к старой поговорке: cherchez la femme!
Буржуазная историческая наука, как утверждает вульгарный социологизм, сводится к поговоркам, разговорам, слухам и сплетням. Тынянов трудолюбиво снимает с буржуазной исторической науки переливающийся романтическими красками налет таинственности и ядовитую плесень сплетни. Правильное изображение истории все время перебивается неправильным (как полагает Тынянов). Но писатель показывает, как начинает выглядеть история по версиям официальным и официозным, по разговорам, слухам и сплетням. И тогда все приобретает истинность, саркастичность и убедительность.
«Слухи, которые поползли разом и вдруг, имели несомненно злонамеренный характер.
Передавалось на ухо и с оглядкой, что двое солдат угрожали жизни государя императора, но его спас малолетный подросток. Другие же, главным образом из военных, с досадой возражали, что напротив, юный наглец бросил снежком в императора, но был задержан полицейским поручиком, а теперь нахал содержится в Петропавловской крепости и что вообще этого не было».
Самое главное — «что вообще этого не было».
«В донесениях французского атташе Фонтенеля своему правительству о деле рассказывалось более точно. Группа знатных откупщиков, нечто вроде fermier generaux старого режима, d’ancien regime во Франции, предъявила иск правительству на пятьдесят миллионов рублей; население в панике; министр финансов не у дел и проводит дни в публичном доме (la maison de tolerance) по Мещанской улице. На императора сделано покушение во время выезда на охоту (oblava russe). Преступник — поляк.
Атташе писал: «Aut nunc, aut nunquam — теперь или никогда».
Дело принимало серьезный оборот и могло вызвать самые неожиданные осложнения. В серьезных случаях прибегали к Булгарину.
«От Фаддея Венедиктовича просили и ждали помощи, как от редактора «Северной пчелы», чтобы успокоить умы.
Фаддей Венедиктович попросил поручика Кошкуля 2-го подробно описать все происшествие и с пером в руке стал думать…
— Представить можно, что две бешеные собаки напали, а отрок храбро… Нет, не годится.
— Можно также себе представить, что два волка из соседних деревень забежали… Волки — это весьма годится, это романтично. А отрок… нет, не годится…»
Собаки отпадают в связи с тем, что «если уж на императора напали, то других и подавно покусают». С волками тоже ничего не выходит, потому что рассказ о них «несовместим с уличным движением». Тогда возникает версия, которой и суждено было войти в историю.
«— Утопающая, — пояснил он (Булгарин. — А.Б.) ничего не понимающему поручику Кошкулю 2-му, — в проруби…
Назавтра же в «Северной пчеле» появился в отделе «Народные нравы» фельетон под названием: «Чудо-ребенок, или Спасение утопающих, вознагражденное монархом».
Событие закреплено золотом на мраморе: над окошком будки градских стражей «воздвигалась простая белая мраморная доска с золотыми буквами: «Император Николай I изволил удостоить эту будку своим посещением в день 12 февраля 184… года и присутствовать при отогревании утопающей».
Подлинная же история здесь решительно ни при чем. Подлинная история, занузданная вульгарным социологизмом, заключается в том, что борьба между поместным дворянством и торговым капиталом неминуемо должна кончиться победой последнего. Сопротивление поместного дворянства безнадежно. Таков закон поступательного движения истории.
Это поучительное соображение было решено писателем в таком сюжете: поместное дворянство (в образе императора Николая Павловича), проезжая Петербургской частью своей столицы, замечает, что в строение, ни в какой степени не напоминающее здание военного ведомства и при ближайшем рассмотрении оказавшееся кабаком, вошли два солдата. Император возмущен до глубины души: «…если бы вся армия пошла в кабак, — резонно расссуждает он, — государство было бы обнажено для внешних врагов». В связи с тем, что «быстрый рост трактиров, — как было отмечено еще в «Смерти Вазир-Мухтара», — признак растущей цивилизованности», опасения императора кажутся не лишенными основания. Во избежание страшной для отечества опасности, Николай Павлович приказывает кабак прикрыть, а кабатчицу и откупщика посадить в тюрьму. Вот тут и появляется торговый капитал.
Узнав об аресте мелкого винного откупщика, лидер винных откупщиков угрожает прекращением операций, что неотвратимо должно привести к разорению государственной казны. В борьбу втягиваются винные магнаты, министры, придворные и сам император. Император гневно заявляет: «Я покажу им, что в России еще есть самодержавие» — и действительно показывает.
Но в борьбу вмешивается женщина, таинственный пакет с вложенными в него двумястами тысяч рублей ассигнациями, и все заканчивается к общему удовольствию: кабак открывают, мелкого откупщика выпускают, лидер откупщиков дает «фешьонебельный бал», император торжествует победу над женским упрямством, а торговый капитал торжествует победу над землевладельческим дворянством.
Что же касается малолетного Витушишникова, то он ко всему этому отношения не имеет.
Однако Тынянов вводит его в сюжет, связывает с историческими персонажами, называет его именем рассказ и превращает незначительное событие, связанное с ним, в Эпицентр исторического повествования. Все это сделано для того, чтобы убедить читателя в том, что вся история такова, что так называемые «великие деяния» на самом деле весьма сомнительны, а о побуждениях к их совершению лучше и вовсе промолчать. И если уж такое ничтожное лицо, как малолетный Витушишников, и ничтожное происшествие, с ним связанное, не могут получить подлинного исторического освещения, то что же говорить о событиях, решающих судьбы мироздания, об исторических катаклизмах и превращениях эпох? Какая пропасть между историческим фактом и его репутацией в так называемой «исторической науке»! И был ли вообще этот факт? «В то время все могло быть. Даже, может быть, ничего не было в то время»[158]. Сражение при Ватерлоо так же повлияло на судьбы Европы, как и то, что «Варвара Аркадьевна Нелидова отлучила императора от ложа».
Создается впечатление, что Тынянов не только отступает под ударами вульгарного социологизма. Создается впечатление, что Тынянов с отвращением посмеивается над ним. Причем иногда весьма неосторожно.
«Многими историками отмечалось, что бывают такие дни, когда все кажется необыкновенно прочно устроенным и удивительно прилаженным одно к другому, а весь ход мировой истории солидным. И напротив, выдаются такие дни, когда все решительно валится из рук. Тумба, в которую ударил носком сапога, находясь в дурном настроении, император, внезапно повалилась набок…
— Где мерзавец Клейнмихель? — спросил император…
Между тем вопрос имел глубокое значение, что обнаружилось впоследствии».
Ничтожные события сцепляются с другими, переплетаются с великими и выравнивают исторический рельеф. Значения, впрочем, ни те, ни другие не имеют, а важны только как побудительные причины. Отлучение от ложа или повалившаяся тумба с этой точки зрения не хуже и не лучше других, потому что впоследствии обнаруживается глубокое значение, которое они могут иметь.
В концепцию «Подпоручика Киже», несомненно, укладывалось нечто большее, нежели кровавая полоска павловского царствования. И значительность этой концепции была именно в том, что в нее хорошо помещались широчайшие просторы различных видов самодержавной тирании. Но так как «Подпоручик Киже» — это художественное произведение, а не социологическое исследование, то события и люди переданы в нем через определяющую явление частность.
Такой определяющей частностью павловского самодержавия была всеобъемлющая нелепость. Она могла хорошеть и толстеть, потому что не встречала сопротивления. В эпоху Павла было лишь несколько критических личностей, стоящих одиноко, как трубы в сгоревшей деревне.
Эпоха Николая Павловича отличалась от эпохи Павла не столько улучшением деспотизма и всегда связанной с ним социальной нелогичностью, нелепостью и противоречивостью, сколько тем, что в эпоху Николая появилось общество. Эпоха Николая началась именно с намерения уничтожить общество, но это уже было невозможно: Россия пережила войну 1812 года и побывала в Европе не только как победительница, но и как ученица. И научилась многому.