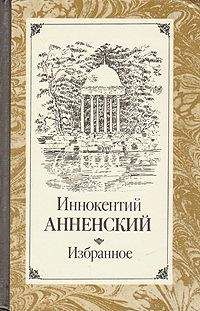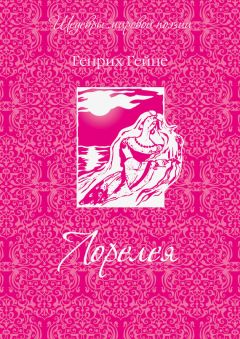Владимир Ильин - Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение»
В Лицее Пушкиным написано сто двадцать стихотворений разного рода, а также задумана и сильно подвинута поэма « Руслан и Людмила», его первый настоящий шедевр, законченный к 19-ти годам жизни поэта.
Люди, мало понимавшие в этих делах толк (из высшей администрации), спорили о том, что лучше: быть ли Пушкину стихотворцем или перейти к прозе. Остановились, что более чем странно, на прозе (впоследствии также и Государь Николай Павлович). Державин и Жуковский категорически требовали поэзии – и были, конечно, более правы. Но мы теперь можем без всяких оговорок утверждать, что всеобъемлющему гению Пушкина одинаково было доступно то и другое.
Кончив лицей, Пушкин рвался к военной службе, хотел стать гусаром – и лишь расстроенные денежные дела Сергея Львовича помешали тому. Однако военная служба и военное дело занимают как в поэзии, так и в прозе Пушкина огромного значения место. Это следует объяснить как имперскими великодержавными, так и эстетическими влечениями и вкусами поэта. К этому надо отнести еще и неодолимое стремление к удальству, к юному молодечеству и богатырству, что, впрочем, тесно связано у Пушкина с военно-имперско-великодержавными и эстетическими вкусами. Очень характерен его вопрос на эту тему и обращение к своему дяде Василию Львовичу (так называемому «парнасскому Дяде»):Скажи, парнасский мой отец,
Неужто верных муз любовник
Не может нежный быть певец
И вместе гвардии полковник?
Ужели тот, кто иногда
Жжет ладан Аполлону даром,
За честь не смеет без стыда
Жечь порох на войне с гусаром
И, если можно, города?
Из этого видно, что у Пушкина не было никаких признаков интеллигентского псевдогуманистического «плюнь-кисляйства», хотя он и был очень добрым и христиански настроенным человеком. Впрочем, из биографий революционеров нам хорошо известно, что так наз. «страдальцы за человечество» коллективисты-утописты на деле оказываются жестокими губителями человечества и его культуры. Ибо, как говорит гениальный вскормленник лиры Пушкина, Достоевский, – «любить общечеловека, это значит презирать, а то попросту ненавидеть стоящего возле тебя настоящего человека».
Подобно тому как Пушкина одинаково тянуло и к поэзии, и к прозе, так его тянуло и в деревенскую тишь, к пасторально-буколическим житейским и поэтическим мотивам, и в такой же степени не мог он обойтись без городского шума и светской толпы, хотя отлично прозревал и в плюсы, и в минусы пасторалей и урбанизма.
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины.
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным
И far niente мой закон.
Это – автобиографическое признание в одном из восхитительнейших «лирических отступлений» в «Евгении Онегине».
Но зато сколько красивого шума в «Медном Всаднике»:
И блеск, и шум, и говор балов.
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
В чрезвычайно серьезном по теме «Пире Петра Великого» Пушкина беспредельно восхищает то, что
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
Пожив некоторое время в деревне по окончании Лицея, Пушкин уехал в Петербург, куда его повлекли не только вихри светских наслаждений и увлечений, но в еще большей степени необходимость общаться с товарищами по искусству русского художественного слова, которого ему скоро суждено было стать некоронованным Царем…
«Руслан и Людмила» увидела свет в 1820 г. Восторг она вызвала всеобщий, и вся русская литературно-поэтическая элита (за исключением устаревшего и не особенно умного Дмитриева) была на стороне блестящего шедевра юного гения. Достаточно назвать имена тех, кто руководил хвалебным хором восторженных отзывов: Жуковский, Крылов, кн. Вяземский, Гнедич… Особенной новинкой было принятие всерьез сказочного элемента и введение его в «большую литературу» и в «большую поэзию». На шипение кое-кого по поводу поэмы Крылов ответил знаменитой эпиграммой:
Напрасно говорят, что критика легка.
Я критику читал «Руслана и Людмилы».
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка!
Странные отношения сложились у Пушкина с домом Карамзина и с автором «Истории Государства Российского». Пушкин разделял всеобщий восторг перед этим первым вполне монументальным трудом по русской историографии и заявил во всеуслышание, а потом и напечатал: «Древнюю Россию Карамзин открыл подобно тому как Колумб открыл Америку»… А эпиграммы все же писал. Но это вполне соответствовало его натуре. Например, Пушкин очень любил Чаадаева и с лицейских лет дружил с ним. Но за его нападения на Россию в «Первом философическом письме» Пушкин решительно и круто расправился с автором «Письма» в эпистолярном порядке…
«Злой» язык Пушкина и перехваченная переписка привели к «ссылкам», которые теперь, когда «освободители» познакомили нас с настоящими ссылками, могут почти вызвать зависть: это – ссылки в свои имения и на юг. В Крыму был начат «Кавказский пленник» и написано дивное прощание с морем (законченное в Одессе):
Прощай, свободная стихия…
В Кишиневе и в Одессе Пушкин вел свободную, разгульную жизнь и набрался впечатлений для «Цыган», для «Бахчисарайского фонтана» и для множества небольших стихотворений. В Екатеринославе, узнав о бегстве прикованных друг к другу разбойников, он вдохновился этим на свою небольшую, но гениальную поэму «Братья разбойники». Вообще «ссылка» и юг дали Пушкину богатейший запас впечатлений, которые он быстро развернул в настоящую картинную галерею первоклассных шедевров. Кишинев Пушкин обессмертил тем, что начал там писать «Евгения Онегина». Там же написаны мгновенно облетевшие всю Россию и поныне безмерно популярная «Песнь о вещем Олеге» («Как ныне сбирается вещий Олег»), «Наполеон» и др. Ни на Инзова, ни на Гаевского, ни даже на несравненно более строгого графа Воронцова Пушкин не имел ни малейших оснований жаловаться, хотя в письме к брату чувствуются капризные нотки балованного ребенка… В конце концов он делал что хотел и отечески настроенному начальству с ним было очень трудно… Однако Молдавия и «глушь степей» ему порядком надоели, кишиневские дамы, с которыми как в стихах, так и на деле он обходился бесцеремонно, – тоже порядком прискучили…
«…Здоровье мое давно требовало морских ванн; я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу; ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей Богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что я остаюсь в Одессе…» Однако выходки Пушкина, хотя остроумные и биографически очень интересные, превращающие этот одесский период почти в водевиль, не пришлись по душе важному, хотя несомненно доброму Воронцову, и между ними начинают возникать трения… В них много смешного, хотя графу Воронцову было не до смеха. Так, например, будучи послан обследовать опустошения, произведенные саранчой в Новороссийском крае, Пушкин не постеснялся вместо рапорта представить всем известное четверостишие:
Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела – все съела
И вновь улетела.
Обиженный гр. Воронцов пожаловался в Петербург. Следствие: 30 июля 1824 г. Пушкин получил предписание ехать из Одессы, нигде не останавливаясь, в имение своих родителей, село Михайловское. Одновременно с этим он получил 389 руб. прогонных, 150 руб. жалованья вперед, а сверх того от своего друга кн. П.А. Вяземского – 3000 руб. гонорара за изданный только что «Бахчисарайский фонтан». В селе Михайловском Пушкин продолжал вести по возможности свою богемную жизнь – кутил, влюблялся, ездил по соседям, ухаживал напропалую за дамами и девицами. К этому времени относится его роман с красавицей А.П. Керн, плодом чего было прославленное стихотворение «Я помню чудное мгновение», к которому М.И. Глинка написал ему эквивалентную музыку.
Совершенно ясно, что наивное поручение, данное родителям – следить за поведением огнепламенного сына, вполне сложившегося как по своему дарованию, так и по характеру, и по миросозерцанию, – кончилось ничем: огонь за пазуху не кладут. Родители Пушкина, с которыми он ссорился ежеминутно, не выдержали и уехали в Петербург, а сын остался в деревне. В «Евгении Онегине», который, конечно, не есть ни автобиография, ни «автопортрет», находится, однако, много автобиографических черт – особенно в описании деревенской жизни. По вечерам он слушал бесконечные сказки и повествования своей удивительной няни Арины Родионовны, место которой в истории русской литературы и поэзии очень значительно: это она безмерно обогатила пушкинскую сокровищницу народными мотивами… Никогда не забудет русская земля гениального помещика и его няню.