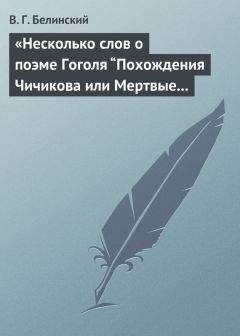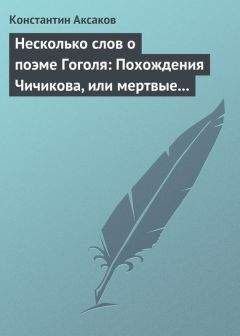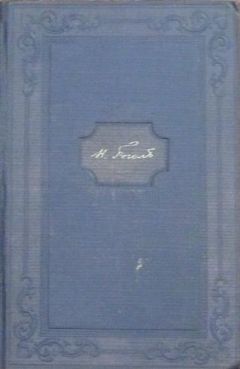Алексей Писемский - Сочинения Н.В.Гоголя, найденные после его смерти
«На Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, а задает обед, и все обедающие говорят, что это последний раз, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того 10 лет. Мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и также задает обед, на котором опять все обедают и думают, что это уже в последний раз, и снова все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму. Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать, в другой – хлебосольный прием для всех артистов и художников и великодушная подача всем. Бывали подчас такие тяжелые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился; но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнию. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитавших дух свой быть превыше несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и странное дело! Почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь, или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачу, или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда и не слыхал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою» (стр. 158 и 159 второй части «Мертвых душ»).
Несмотря на это странное соединение доброго сердца, светлого, сознательного ума с распущенностью, пустой в высшей степени жизни с религиозностью, Хлобуев составляет органически цельное, поразительно живое лицо. Вы, читатель, вероятно, имеете одного или двух таких знакомых. Никто вас так не сердил, и никого вы не способны так скоро и душевно простить, как этих людей. Никто вам столько не надоедал своими вздорными надеждами и бесполезным, но искренним раскаянием, и в то же время ни с кем вы не желаете так встретиться и побеседовать, как с ними.
Окончание четвертой главы и пятая глава не могут подлежать никакому суду, потому что это скорее конспекты, и те с пропусками, по которым, впрочем, ясно видно, как много живых струн предначертал себе великий юморист тронуть из русской жизни, и нам, читателям, остается только скорбно сожалеть о том, что он не довершил своих предначертаний, или, как говорят, и довершил, но уничтожил свой труд. В критическом же отношении из всех набросанных силуэтов нельзя не заметить откупщика Муразова. Не произнося над этим лицом приговора, по его неоконченности, нельзя не заметить в нем, как и в Костанжогло, идеала и вместе с тем решительного преобладания идеи над формой.
Такова, по нашему крайнему разумению, столь долго ожидаемая вторая часть «Мертвых душ» с ее громадными достоинствами и недостатками. Трудясь над ней, Гоголь, говорят, читал ее некоторым лицам – и не знаю, раздался ли между ними хоть один раз такой искренний голос, который бы сказал ему: «Ты писал не грязные побасенки, но вывел и растолковал глубокое значение народного смеха. Ты великий, по твоей натуре, юморист, но не лирик, и весь твой лиризм поглощается юмором твоим, как поглощается ручеек далеко, бойко и широко несущейся рекою. Ты не безнравственный писатель, потому что, выводя и осмеивая черную сторону жизни, возбуждаешь в читателе совесть. Неужели по твоей чуткости к пороку, к смешному, ты не раскрываешь добра собственной души гораздо нагляднее какого-нибудь поэта, кокетствующего перед публикой поэтическим чувством? Смотри: одновременно с тобой действуют на умы два родственные тебе по таланту писателя – Диккенс и Теккерей[27]. Один успокоивает себя и читателя на сладеньких, в английском духе, героинях, другой хоть, может быть, и не столь глубокий сердцеведец, но зато он всюду беспристрастно и отрицательно господствует над своими лицами и постоянно верен своему таланту. Скажи, кто из них лучше совершает свое дело?» Не знаю, повторяю еще раз, пришел ли к нему на помощь хоть раз подобный голос, но сам поэт, не в одно и то же, конечно, время, понимал это и сознавал ясно.
«Нет (говорит он, определяя значение смеха и уясняя нравственное его значение), смех значительней и глубже, чем думают: он углубляет предмет, заставляет выступать ярко то, что проскользнуло бы; без проницающей силы его мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Несправедливы те, которые говорят, будто смех возмущает. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примирение в душу. Несправедливо говорят, что смех не действует на тех, противу которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцене; плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться. Насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете. Засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: что смешно, то низко, говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают название высокого» (стр. 587 «Театрального Разъезда» в Сочинениях Гоголя. Изд. 1842).
Какое истинное и глубокое эстетическое положение, которое юморист высказывает в период своего нормального творчества! И теперь посмотрите, как болезненно начинает он, под гнетом неисполнимой задачи, вторую часть «Мертвых душ».
«Зачем же изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже таковы свойства сочинителя, и заболев собственным несовершенством, он уже не может изображать ничего другого, как только бедность да бедность, да несовершенства нашей жизни».
Не может, повторяю и я вместе с этими искренними строками, но только по другой причине. Идеал Гоголя был слишком высок; воплотить его всецельно было, мне кажется, делом неисполнимой задачи для искусства.
Во всей моей статье, не касаясь великого писателя, как человека, что предоставляю будущим его биографам, я смотрел на него как на художника, и надеюсь, что меня не упрекнут в несколько рановременной, может быть, откровенности: чем предмет ближе к сердцу, тем скорее и откровеннее хочется говорить о нем, и сверх того я высказал не свои почти мысли, а те, которые живут и вращаются между большей части искренних почитателей его таланта. Желаю по преимуществу одного: чтоб статья моя вызвала ряд других статей, которые пополнили бы то, что мною недосказано, расширили бы высказанный мною взгляд или даже совершенно отринули его, как односторонний, и заменили бы его другим, более общим и верным. Наконец, в заключение, могу пожелать всем вам, писателям настоящего времени, призванным проводить животворное начало Гоголя или внести в литературу свое новое, – одного: чтоб, имея в виду ошибки великого мастера, каждый шел по избранному пути, не насилуя себя, а оставаясь к себе строгим в эстетическом отношении, говорил, сообразуясь с средствами своего таланта, публике правду.
1855 года.
Июля 27-го
Примечания
Статья впервые опубликована в «Отечественных записках», 1855, No 10.
В своих художественных произведениях 40-50-х годов Писемский выступает как крупнейший последователь Гоголя. Современники справедливо усматривали в нем одного из талантливых учеников Гоголя и наиболее яркого представителя натуральной школы. Закономерно поэтому, что в области литературно-критической деятельности Писемского заметным явлением стала его статья о II томе «Мертвых душ» – одна из первых статей, посвященных этому произведению.
26 Октября 1855 года Писемский сообщал М.П.Погодину: «Написал я статью о Гоголе… Сказал, по крайнему своему убеждению, о нашем великом мастере правду; многие на меня, знаю, теперь восстанут, но верю в одно, что с течением времени правда останется за мной».[28]
Еще до появления в печати II том «Мертвых душ» вызвал оживленные толки как в среде славянофилов (отдельные главы читались, например, у Аксаковых), так и у представителей другого лагеря (в частности, у И.С.Тургенева, который имел возможность познакомиться с несколькими главами в рукописи). При этом реакция была, конечно, совершенно различной. Аксаковы безоговорочно приняли II том «Мертвых душ». В.С.Аксакова 29 августа 1849 года писала М.Г.Карташевской, что «Гоголь все тот же, и еще выше и глубже во втором томе»[29]. Более конкретно высказался К.С.Аксаков, который, сообщая брату (И.С.Аксакову) о чтении Гоголем второй главы II тома «Мертвых душ», писал в январе 1850 года: «Она для меня несравненно выше первой. Улинька, генерал, жизненные отношения и столкновения этих и других лиц не выходят у меня из головы. Чем дальше, тем лучше».[30]