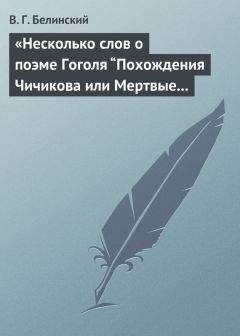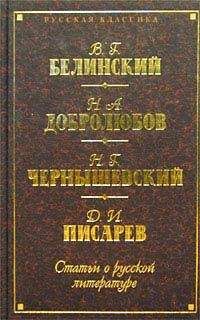Виссарион Белинский - Общее значение слова литература
Письменность есть средство равно и для словесности и для литературы, сохраняя произведения первой и выражая собою движение последней. Если в письменности выражается дух эпохи и она принимает характер не только догматический, но и полемический, тогда она бывает литературою или по крайней мере служит переходом от словесности к литературе. Разумеется, это бывает только у народов, стоящих во главе человечества, и притом в самые жизненные эпохи своего исторического существования. Так было, как сказали мы выше, в первые века христианской церкви, во время расколов и соборов; так было в Западной Европе средних веков, где из богословской полемики образовалась диалектика, логика и метафизика. Но письменность во всяком случае представляет для развития литературы слишком тощую почву и ограниченную сферу, и без книгопечатания новейшая литература навсегда бы могла остаться слабым растением, поддерживающимся искусственными средствами. С другой стороны, не должно забывать, что у народа, лишенного духа всемирно-исторической жизни, и книгопечатание не родит литературы: будут книги и, пожалуй, в огромном количестве, но литературы все-таки не будет.
Выше сказали мы, что «литература есть выражение умственного существования (сознания) народа в его словесных произведениях». Каждый народ живет своею жизнию, а как жить не значит только родиться, есть, пить и умирать, но и мыслить, знать, – то, следовательно, каждый народ живет и своим сознанием, которое есть не что иное, как одна из многих сторон сознающего себя общечеловеческого духа. Особенность сознания, принадлежащего одному народу и отличающего его от всех других народов, состоит в его миросозерцании, в том инстинктивном внутреннем взгляде на мир, с которым он, так сказать, родится, как с непосредственным и только одному ему присущным откровением истины и который есть его самодвижительная сила, жизнь и значение. Миросозерцание народа – это та умственная призма, с одним или несколькими первосущными цветами радуги, сквозь которую он созерцает тайну бытия всего сущего. Народ есть идеальная личность, у которой, подобно каждому отдельному человеку, своя особенная натура, свой темперамент, свой характер, словом, своя субстанция (слово, которого значение далеко не вполне может быть выражено словом сущность). Почему у того или другого народа именно такая, а не этакая субстанция, – этого так же невозможно объяснить, как и того, почему один человек родится с способностию к живописи, а не к музыке, другой – к математике, а не к военному искусству, и т. д. Правда, на образование субстанции народа имеют большее или меньшее влияние географические, климатические и исторические обстоятельства; но тем не менее очевидно, что первая и главная причина субстанции всякого народа, как и всякого человека, есть физиологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно творящей природы. Субстанция, в свою очередь, есть прямой и непосредственный источник миросозерцания народа. Из миросозерцания народа возникает животворная идея; развитие этой идеи в живой практической деятельности составляет историческую жизнь народа. Движительным развитием этой идеи народ живет; ею он и силен, и крепок, и могущ, так что, когда эта идея совершит полный круг своего развития, – животворный источник народной жизни иссякает, народ теряет свою энергию и начинает существовать только внешним образом, пока какой-нибудь внешний же толчок не прекратит его призрачного существования. Так кончилось существование Греции и Рима, когда первая изжила всю свою религиозно-мифическую и эстетически-гражданственную жизнь, а второй утратил энтузиазм республиканской доблести. Миросозерцание, а следовательно, и субстанциальная идея народа проявляется в его религии, в его гражданственности, в его искусстве и знании. Уловить миросозерцание какого бы то ни было народа в краткое и удовлетворительное определение чрезвычайно трудно; довольно указать на его присутствие в многоразличных проявлениях народного сознания. В Индии, например, издревле до наших времен царствует пантеистическое миросозерцание, и бог понят как вечно производящая и вечно разрушающая сила природы. Для индийца каждое явление природы есть воплощение Брамы, и потому для него всё в природе выше человека, и он набожно хранит жизнь всякого животного, хотя бы то было насекомое, и небрежет о своей собственной и своих ближних. Погружаться в созерцание совершенств Брамы, исчезать в восторженном блаженстве этого пиэтистического созерцания и духом и плотью – цель жизни индийца. И потому-то в Индии в таком употреблении добровольно терзать свою плоть физическими муками, бросаться под колеса гигантского истукана, сожигаться на кострах и т. п. Это миросозерцание отразилось и в искусстве индийском. Неопределенное божество, подавляющее бедного человека своим всесокрушающим величием, не могло выразиться иначе, как в храмах колоссальных, подобно горам, в гигантских и уродливых истуканах. То же явление повторилось и в литературе: «Махабгарата» и «Рамаяна», по их внешней форме огромны, нестройны, завалены эпизодами; по содержанию исполнены присутствием божества, производящего и разрушающего, и человек в них с безусловным самоотвержением поглощается в деспотической воле этого страшного божества, из-под бесчисленных образов которого всегда выглядывает обоготворенная материя вселенной. В Персии это пантеистическое божество отрешилось от всякой образности, из царства видимой природы перешло в царство духов (самодействующих и первосущных сил природы) и распалось на двойственное и враждебное себе самому понятие добра и зла. В племенах симических божество, отрешившись от всякой образности, явилось бесплотною и отвлеченною идеею всесущности – безличною индивидуальностию. Это миросозерцание перешло впоследствии и в муггамеданство. Но, несмотря на свою духовность, оно есть тот же индийский пантеизм, только на высшей ступени своего развития. В Египте видна борьба природы с человеком: египетское ваяние коснулось и человека, но этот человек лишен жизни, связан и блещет только мертвою правильностию черт лица. Часто он является там неотделенным от животного, и в сфинксе выразилось торжество египетской фантазии, не могшей ни оторваться от животного, ни возвыситься до человека. В Греции, в лице мифического Эдиппа, человек победил сфинкса, разгадав его загадку, смысл которой был – «человек», и в разгадке которой выразилось самосознание человека. Сфинкс от стыда и досады бросился в море, а человек остался царем на земле. И потому, если грек очеловечил божество, выражавшееся на Востоке только в животных образах, то и обожествил человека – и это не в одном изяществе благородных форм его тела, но и в духовном стремлении его к истинному, прекрасному, доблестному, которое, по понятию грека, было божественным, хотя в нем и отразилась его же собственная человеческая сущность. Итак, по созерцанию эллина, божественное внешнего человека состояло в красоте, а божественное внутреннего человека состояло в героизме, в смысле борьбы долга с роком, – и там, где победа оставалась за человеком, человек делался выразителем и представителем божественного, а где человеческая личность побеждалась страстью и эгоизмом, там божественное являлось торжествующим в трагической катастрофе падшей нравственно личности. Во всем, и в природе, и в духе человека, и в религии, и в гражданственности, и в искусстве, грек искал и находил – божественное и упивался им в блаженном созерцании. Цель жизни для грека было наслаждение, заключавшееся в одном божественном. И потому у грека самая чувственность была обожествлена чувством красоты и изящества, которые тесно были соединены в его созерцании с чувством нравственного. Жрец ли, воин ли, администратор ли, мудрец <ли>, художник ли, гость ли на пиру: грек везде священнодействовал, везде был актером, который берет себе роль, чтобы, слившись с страданием и блаженством героя драмы, насладиться и своим с ним единством и своею от него особностию в одно и то же время. Вот это-то миросозерцание и лежит в основе каждого художественного произведения греческого, а следовательно, и в греческой литературе, лежит в их основе, как мысль затаенная, но тем не менее ясная и ощутительная, как национальный мотив, по которому узнают музыку того или другого народа во всех его песнях. И это-то миросозерцание и составляет то вечное и непреходящее, то божественное греческой литературы, которое и сделало ее общим достоянием человечества, несмотря на изменение нравов и понятий, в течение тысячелетий, которое пережило эмпирическое существование греков и умрет только с человечеством, если человечество может умереть. В греческом миросозерцании мы видим торжество развития древнего мира, видим в ней цветом то, что в Индии было корнем, в Египте стеблем и листьями. По этому самому даже искусство и литература индийцев имеют всемирно-историческое значение, как выражение ступени всемирно-исторического развития. Египтяне оставили памятники своего интеллектуального существования преимущественно в зодчестве и ваянии, в громадной нескладности и животных типах которых выразилось окончательное обожествление природы и порывание к идее человека. И потому египетское искусство тоже имеет всемирно-историческое значение. Но несравненно выше их всемирно-историческое значение греческого искусства и греческой литературы, в которых все, что в других древних народах проявлялось неопределенно, разрозненно, чудовищно, явилось определенно, полно и изящно.