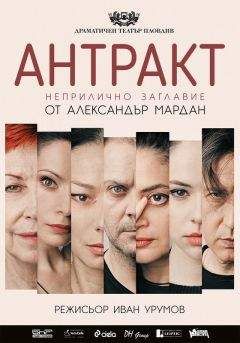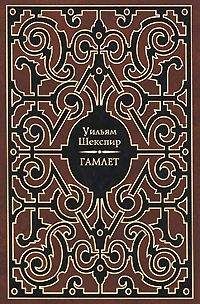Александр Минкин - Нежная душа
Театр бесконечно (столетиями) страдает от фальши и воюет с ней. И все победы великих режиссеров: Станиславского, Мейерхольда, Эфроса – это победы над фальшью. А все поражения, все провалы бездарных постановок – это победы фальши.
А тут двойная фальшь: и думать вслух не очень-то нормально, и Соня должна делать вид, что глухая… Ну да театр спишет.
Проще, конечно, избежать фальши, вычеркнув мысли. А если жалко вычеркнуть, но и не хочется вынуждать Соню изображать внезапную глухоту, то надо переводить мысли в слова. Чьи?
Мысли Раскольникова написаны Достоевским. Казалось бы, лучше сохранить текст Достоевского. Но вот беда, мы говорим не так, как думаем. Думаем мы очень откровенно, очень грубо. Думаем: какая красотка! вот бы с ней… А говорим: знаете, у вас удивительно красивые глаза.
Мысли Раскольникова (если уж он подвернулся) полны ненависти, страдания, страха. Но в том-то и дело, что он изо всех сил прячет их от людей. И эта необходимость (всем знакомая) думать одно, а говорить другое – одна из важнейших составляющих романа.
Итак, нельзя актеру произносить мысли героя, написанные Достоевским. И значит, надо либо выбросить это место вообще, либо сочинить некий словесный протез, заменяющий мысли, но позволяющий кое-как сохранить логику событий, чтобы публика кое-как понимала, что там происходит.
Кроме мыслей героев в романах есть еще мысли автора. Важнейшие! Их-то кто будет произносить?
Немирович вынужден был ввести Чтеца – актера, который произносил мысли Достоевского. Тем самым в число персонажей романа был внедрен Федор Михайлович, что курам на смех – еще и его не замечай, не слышь.
Тем не менее успех «Братьев Карамазовых» в октябре 1910 года был грандиозный. Немирович в восторге писал Станиславскому:
«Мы открыли театру дорогу к великой литературе… Я сам не ожидал, что откроются такие громадные перспективы… Случилось что-то громадное, произошла какая-то колоссальная бескровная революция… Теперь для театра ничто не стало невозможным… Эта революция не на пять, не на десять лет, а на сотню, навсегда! Театр будут считать: от Островского до Чехова, от Чехова до „Карамазовых“ и от „Карамазовых“ до… я думаю – до Библии. Потому что если духовная цензура погибнет – а рано или поздно она должна погибнуть, как старый, весь изъеденный внутри дуб, – то нет более замечательных сюжетов для этого нового театра, как в Библии».
Революция Камы Гинкаса еще не приобрела всемирно-исторического значения. Тем не менее она осуществлена.
Не писать инсценировок. Не переделывать прозу в пьесу. Не делить: слева – кто, справа – что.
Сыграть текст, ничего в нем не меняя. Не переводя язык сокровенных мыслей на язык публичных речей, не вводя Автора-Чтеца.
Стоит на сцене актриса, играющая Даму с собачкой, и говорит (точно по Чехову):
– Должно быть, это первый раз в жизни она была одна. В такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, говорят с ней – только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться.
Но произнося текст Чехова, она играет. Играет голосом, глазами, смехом, слезами, дыханьем, сердцем, душой. Актриса то изображает переживающую героиню, то переживает за нее! Смеется то над ней, то над собой; смеется над ней и плачет о ней; а порой, похоже, о себе. Согласитесь, легче рассказывать о «друге», чем о себе. Особенно если хочешь рассказать о себе что-то очень личное, очень интимное, и особенно трудно рассказывать, если позорное.
Стоит на сцене актриса, вроде бы играющая Даму с собачкой, и произносит слова, которые Чехов написал о Даме с собачкой. Дама не свои слова произносит, а слова Чехова о себе.
Это формалистический фокус. Это невозможно.
Разве невозможно? Вот перед самым твоим носом показывают фокус, и ты не понимаешь, как это сделано. Если из цилиндра вынимают зайца, то можно хотя бы догадываться, что цилиндр с двойным дном. А если на твоих глазах с ладони исчезает монета, то ведь у ладони нету двойного дна. Как это сделано?!
Твое счастье, что не понимаешь. Ибо если поймешь или сдуру уговоришь фокусника объяснить – чудо исчезнет. Останутся техника, технология, ловкость рук (пусть изумительная, но все же всего-навсего ловкость) – а чудо исчезнет.
Я не могу вам описать, как это сделано Гинка-сом на сцене (точнее – под потолком) Театра юного зрителя, просто потому что не хочу. Начну разбираться, развинчивать и – сам уничтожу свое счастье.
«Черного монаха» видел три раза, «Даму» – два. Пойду еще (очень хочется). А если начну анализировать, копаться, если докопаюсь – расхочется.
Тесная форма. Неестественная форма. Где развернуться русскому артисту? Гинкас не первый формалист, которого упрекали, будто губит актеров. Да, режиссура его как стальной капкан, и время, похоже, выверено до секунды. И это, конечно, «исключает свободу творчества»…
…Что может быть теснее космической ракеты? Там ни сантиметра лишнего места.
Что может быть неестественнее для человека, чем полет в космос? Надо ходить по земле, плавать в воде, лежать на веранде или варваре…
Но когда видишь сеанс космической связи (очень похожий на сеанс иллюзиониста) – господи, как же они там свободны! Как парят, как плывут в воздухе…
Там, в тесной кабине, они так свободны, как нам и не снилось. Или – снилось в детстве.
Вот и актеры Гинкаса, после того как он засунет их в жесткую и тесную форму своей режиссуры и запустит на орбиту, – парят.
А разве мы знаем, как сделана ракета?
А если мы ее разберем, то уж точно она больше не взлетит.
А она летит. И глубина сцены в маленьком ТЮЗе по волшебству (но совершенно реально) оказывается гораздо больше, чем в Большом. Не верите? Да хоть рулеткой смерьте – убедитесь. И далеко-далеко в вечернем море качаются лодки, и далеко-далеко в небе светит луна.
Счастье, наслаждение – оттого, что узнаёшь себя, свои чувства, мысли, свою любовь… горечь от того, что узнаёшь свои ошибки, свою жестокость и столько еще своего, что и говорить совестно.
Люди на сцене беззащитны. Мы видим, как они ошибаются, мечутся, мучаются, как разбивают себе лицо, как разбивают чье-то сердце, как они наказаны (обществом, жизнью, судьбой), а мы, глядя на них (на себя), пребываем в полной безопасности, в полной безнаказанности. Никто не упрекнет, что увел чужую жену. Никто не упрекнет за измену мужу.
Это случалось и в нашей жизни, эти поступки совершали и мы, но здесь, в театре, их совершают другие, и нам не грозит расплата.
Не грозит? А разве мы не расплатились? Да если бы на лицах вдруг выступили все шрамы души, вся короста жестокости, все язвы, загнанные внутрь, все смертные грехи, которые мы даже сами себе не прощаем (где уж ждать прощения от других) и потому молчим, – проступи вдруг все это на наших лицах, люди – все шесть миллиардов – завопили бы от ужаса.
…Страдают они, ярко освещенные, а мы сострадаем в темноте. Мы переживаем, но не расплачиваемся. Мы переживаем те же чувства, что они, освещенные, любим, изменяем… В жизни мало кто видел нас плачущими, в жизни мало что может заставить нас плакать, а в театре плакать безопасно. Никто не начнет донимать проклятым вопросом: что случилось? Никто не заставит врать.
В театре чувствуй что хочешь и не бойся. И только иногда пытаешься подавить рвущийся наружу смех, ибо рядом сидит женщина, жена, подруга, которая тоже смотрит на Даму с собачкой, переживая совсем иное, чем ты. А по твоему смеху она поймет о тебе слишком много. Поймет и что ситуация тебе знакома, и что там, где ей были слезки, тебе были игрушки.
Вдобавок на сцене, мешая Ей и Ему, постоянно крутятся два клоуна, два балбеса. Путаются под ногами, самовлюбленно валяя дурака и самозабвенно вопя дурацкие чеховские шутки:
– Радуйся! Если тебе изменила жена – радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству!
Конечно, формализм. Конечно, невпопад. И кто они, эти двое, и что здесь делают?
А это жизнь наша дурацкая – дурацкая родня, дурацкие сослуживцы, дурацкое начальство – дурацкое человечество, которому и дела нет, что у тебя мир рушится и сердце кровью обливается. Радуйся!
В спектакле Камы Гинкаса (а дело происходит на пляжах Ялты) – невероятно красивое, подробное и смешное купание в море, как ни в каком кино. Хотя у киношников в кадре настоящие моря и океаны, красивейшие пляжи мира. А в том море, где купается Дама с собачкой, – вообще нет воды. (Не забудьте, что Дама-с-собачкой – это имя персонажа. А то чего доброго вы решите, что какая-то собачка купается вместе с дамой; это вовсе не так.)
В спектакле не только купаются, но и… Ночью, на пляже близ Ялты, Он и Она становятся любовниками. Много мы видели в кино откровенных сцен (и предельно откровенных, и запредельно). Порой они возбуждают зрителя, порой отталкивают, порой делается стыдно за механическое, служебное, нужное по сценарию, тупое совокупление.
Кама Гинкас сделал эту сцену так, что откровеннее быть не может. Мы видим, как мужчина и женщина достигают наслаждения. Больше того – видим, что женщина (хоть и замужняя) в этот миг впервые в жизни… и еще!.. и еще!.. – и ее наслаждение страшно ей самой – а при этом ни слова, и между актерами несколько метров (!), и никто не снимает штанов.