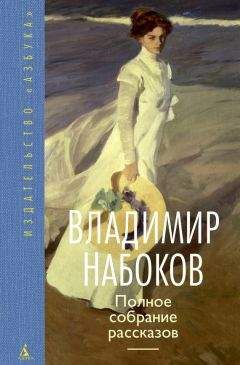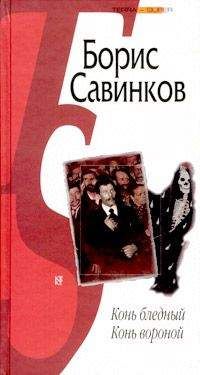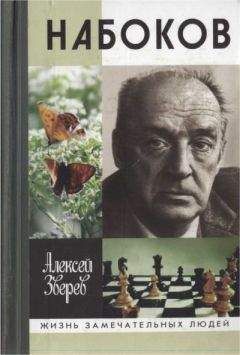Присцилла Мейер - Найдите, что спрятал матрос: "Бледный огонь" Владимира Набокова
Все это волшебно держалось, полное красок и воздуха, с живым движением вблизи и убедительной далью; затем, как дым от дуновения, оно подалось куда-то и расплылось, — и опять Федор Константинович увидел мертвые и невозможные тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в черном оконном стекле (308).
Но в грезе Федора о возвращении отца даже обои оживают под воздействием его памяти и воображения. Обои снова маркируют переход Федора из «реального» мира, где нет отца, в мир, где отец воскресает:
В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками (вот, напр., Thecla bieti) дивно разрисованный потолок (529).
Воображаемые обои и потолок предвосхищают воображаемое возвращение отца Федора из азиатской экспедиции.
Обои — это один из способов противопоставить обыденное и трансцендентное. В картине путешествия отца, созданной воображением Федора, присутствуют и горы, и туман, и тень. Федор представляет себе одну из энтомологических экспедиций отца в терминах, эмблематичных для видений потусторонности в творчестве Набокова:
Я вижу затем, как, прежде чем втянуться в горы, он [караван] вьется между холмами райски-зеленой окраски… <…> Как играло солнце! От сухости воздуха была поразительно резка разница между светом и тенью: на свету такие вспышки, такое обилие блеска, что порой невозможно смотреть на скалу, на ручей; в тени же — мрак, поглощающий подробности: так что всякая краска жила волшебно умноженной жизнью… (299–300).
Если, как говорит Мери Маккарти, имя Хэйзель Шейд (Hazel Shade) содержится в словах: «…он спрятался в тени / За сонным лесом Гленэртни»[367] («Lone Glenartney's hazel shade») из «Девы озера»[368], то тень (shade) и туман (haze) в повествовании Набокова ведут происхождение от собственных набоковских видений «райски-зеленой окраски», через которую пролегает путь отца Годунова-Чердынцева. Туман, тень, дымка устойчиво выступают у Набокова знаками иного мира. В «Других берегах» он так описывает представление своей матери о посмертии:
Она верила, что единственно доступное земной душе — это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, — стройную действительность прошедшей и предстоящей яви (161–162).
Федор говорит о «дымке», которая окружала его отца:
В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами: дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной… Это было так, словно этот… человек был овеян чем-то, еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим (298).
Это «что-то» есть знание о вечности. Федор продолжает:
Тайне его я не могу подыскать имени… может быть, наш усадебный сторож, корявый старик, дважды опаленный ночной молнией, единственный из людей нашего деревенского окружения научившийся без помощи отца… поймать и убить бабочку, не обратив ее в кашу <…> именно он искренне и без всякого страха и удивления считал, что мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто, был по-своему прав (298–299).
Сторож в имении Федора корявый (krumm), как эльфовое дерево — карликовая сосна. Название имения, Лешино, напоминает о лешем русского леса. В сторожа, как и в дерево, попала молния, но он выжил — теперь он сам стал эльфом или получил некое особое знание об иной жизни. Именно поэтому он умеет правильно расправлять бабочек — посланцев духовного мира — и видит в отце Федора спутника по путешествиям в вечности. В момент отъезда Годунова-Чердынцева-старшего в его последнюю экспедицию мы видим сторожа подле «расщепленного молнией тополя» (315)[369].
Федор представляет себе отца «в поисках перевалов (нанесенных на карты по расспросным данным, но впервые исследованных отцом)…» (300). Зафиксированы расспросные данные тех, кто был на грани смерти, но никому еще не удавалось доподлинно исследовать иной мир. Федор описывает горы Тянь-Шаня и гул воды, которая чудовищно надувалась, с бешеным ревом падала «из-под радуг… во мрак» и, «клокоча, вся сизая и снежная от пены… ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератового каньона… меж тем в блаженной тишине цвели ирисы» (300–301).
Это описание представляет собой попытку Федора пройти вслед за отцом в вечность. Он использует оба уже известных нам образа — горы и фонтана[370]. К этим традиционным природным символам возвышенного Набоков добавляет свой личный — голубой ирис. Последний человек, видевший Годунова-Чердынцева-старшего, обсуждает с ним «номенклатурную тонкость в связи с научным названием крохотного голубого ириса…» (317).
Многие виды ирисов имеют голубой или лиловый цвет — граница спектра, сливающаяся с туманными областями, где обитают набоковские призраки. В «Память, говори» Набоков приводит краткую биографию отца. Он начинает в стиле энциклопедической статьи:
Владимир Дмитриевич Набоков, юрист, публицист и государственный деятель… родился 20 июля 1870 года в Царском Селе близ Петербурга и пал от пули убийцы 28 марта 1922 года в Берлине (464).
В автобиографии Набокова есть два ранних предвестия смерти Владимира Дмитриевича. Первый раз сын рассказывает, как крестьяне качают барина в благодарность за благоприятное решение какой-то их просьбы:
Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблелся, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и «ура» незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу (Другие берега, 155).
Второй взлет отца в небо также увиден глазами сына. Набоков описывает невыносимую тоску, которую он испытывал, переживая возможность гибели Владимира Дмитриевича на дуэли и ожидая вестей о ее исходе, который оказался благополучным. Но Набоков уклоняется от изображения последнего и самого высокого взлета своего отца. Напротив, это событие описывается подчеркнуто уклончиво. В тот момент, когда приходит весть о том, что Владимир Дмитриевич застрелен, сын читает матери
блоковские стихи об Италии, — я как раз добрался до конца стихотворения о Флоренции, в котором Блок сравнивает этот город с нежным, дымным ирисом, и она сказала, не отрываясь от вязания: «Да-да, Флоренция похожа на „дымный ирис“, как верно! Помню…» — и тут зазвонил телефон (Память, говори, 351).
Набоков даже не сообщает нам о финале телефонного разговора, происходящего в этом мире. Перед нами, как и перед Набоковым, — лишь финал блоковского стихотворения:
Но суждено нам разлучиться,
И через дальние края
Твой дымный ирис будет сниться,
Как юность ранняя моя[371].
Четыре коротких строки Блока передают всю боль и тоску Набокова. Во сне, описанном в «Даре», отец героя приходит из дальних стран. Эту сцену можно назвать набоковским переводом строфы Блока на язык эмигрантской прозы.
Экспедиция Годунова-Чердынцева-старшего — единственная во всем репертуаре описанных Набоковым географических путешествий, которая не соответствует зеркальному отражению востока и запада (в романах) или севера и юга (в рассказах). Герои Набокова последовательно движутся в западном направлении — из России в Европу, из Европы в Америку. Отец Федора же отправляется на восток — из России в Китай. «В кабинете отца между старыми, смирными семейными фотографиями в бархатных рамках висела копия с картины: Марко Поло покидает Венецию» (299). Путешественник Годунов-Чердынцев-старший, подобно Марко Поло (или Берингу в отвергнутом варианте «Полюса»), отправляется на восток. Образ Венеции служит идентификации отца Федора с отцом самого Набокова через «Итальянские стихи» Блока — последнюю земную связь семьи Набоковых с ее главой. В «Бледном огне» изображение умершей в 1888 году Ирис Ахт в черной бархатной рамке висит на западной стене кладовой Кинбота, где тот оказывается заточен (см.: 115–116, примеч. к строке 130). Федор продолжает описание фотографии из отцовского кабинета: «Она была румяна, эта Венеция, а вода ее лагун — лазорева, с лебедями вдвое крупнее лодок, в одну из коих спускались по доске маленькие фиолетовые люди…» (299). Этот образ сливается с воображаемым Федором въездом каравана Годунова-Чердынцева-старшего в Пржевальск. Название этого городка связывает Ирис Ахт с темой азиатских экспедиций: Пржевальск, ранее и впоследствии Караколь, был назван в честь русского исследователя Азии Пржевальского, который привез из путешествий ценнейшие коллекции растений и животных. Пржевальский умер во время своей пятой экспедиции в Азию в 1888 году[372]. Эти старательно подобранные переклички образуют спираль, характерную для творчества Набокова. Тезису — смерти отца Набокова (реальность) — соответствует антитезис — смерть отца Федора (идеальная фикциональная трансформация), — за которыми следует новый синтез в виде Кинботовой пародийной версии рая — Зембли.