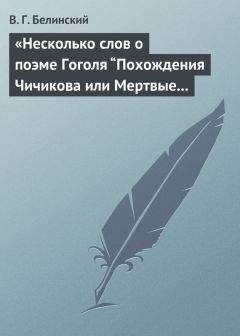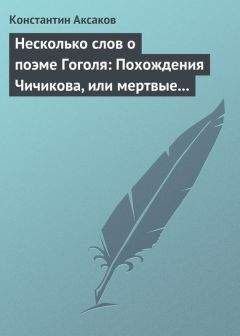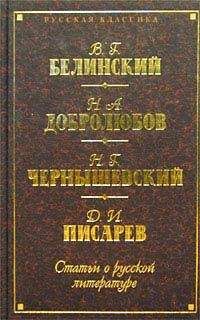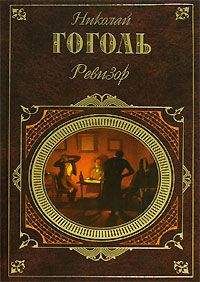Павел Анненков - Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху
Между тем, весть об освобождении Пушкина и о милостивой аудиенции, полученной им у Государя, быстро разнеслась по Москве и надо прибавить, что в торжествах, сопровождавших день коронования, она была радостно встречена публикой, особенно литературно образованной.
Остановимся здесь и, в заключение, подведем итоги всему, что было приобретено и пережито Пушкиным в этот совершенно отдельный и законченный период его жизни, который мы старались здесь представить. При конце его, Пушкину было уже 27 лет, и весь пыл молодости, политических увлечений, слепых пристрастий к словам и представлениям известного рода, остался у него позади. Умственное и нравственное его воспитание еще не кончилось, да оно в сущности никогда и не кончается для развитых людей, но найдены были основы для мысли, с которых Пушкин уже более не сходил. Между бедностью его умственного мира в Петербургский период существования и тем нравственным содержанием, которым он владел при появлении в Москве, в 1826 г., лежала целая пропасть. В короткий промежуток 5–6 лет, развиваясь необычайно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей, кроме самой себя, к неистовому байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира, к объективности, историческому и критическому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт. Когда Пушкин очутился снова в столичном нашем обществе, он принес с собой только зачатки последнего из этих направлений, но потребовалось еще четыре беспокойных года (с 1826 по 1830) для того, чтобы превратить эти зачатки в обдуманную теорию, которая открыла бы разум и цели современного русского существования. Целых четыре года тревожной, непоседной, скажем просто — кочующей жизни, употребил Пушкин на то, чтобы приглядеться и приладиться к новым порядкам и условиям времени, которые так мало были похожи на времена его молодости. Работа эта доставалась ему не даром: гнетущая тоска и скука, постоянно отравлявшие существование поэта в это время, свидетельствуют о том достаточно. Они-то гнали его с места на место по Империи, сделали из него азартного игрока, подсказали ему мысль просить о причислении его к китайской миссии и отразились в уничтоженной главе любимой его поэмы, в «Путешествии Онегина». С обретением упроченного положения в свете (1830-31 г.), весь тяжелый искус этот, казалось, должен был кончиться и уступить место мирному труду, ровной деятельности и светлой жизни. В голове его действительно и стали накопляться все те замыслы по истине громадных созданий, о которых мы можем судить теперь только по отрывкам, сравнительно бедным, оставшимся в бумагах, после его смерти («Медный Всадник», «Русалка», «Средневековая драма», много не написанных драм и поэм, намекающих на свое содержание одними программами или первоначальными строфами). Но в душе Пушкина жила потребность, мешавшая ему замкнуться исключительно в круг своих художнических идей. Он сгорал жаждой многосторонней общественной жизни, которая гнала его в большой свет, где он думал найти ее, но еще сильнее томился он мучительною страстью осмыслить современный ему быт, открыть законные причины его явлений, уверовать в его необходимость и разумность, и, наконец, угадать смысл самой русской истории, как лучшего оправдания народа и страны. Только этой ценой покупались для него и спокойствие духа, и счастье чувствовать себя членом дельного и достойного общества, без чего почти и немыслима возможность какой-либо широкой, творческой деятельности. С обычной своей энергией он бросился на розыски и определения по вопросам и задачам, поставленным им для себя и, разумеется, встретился с возражениями и противоречиями жизни, которая поминутно разбивала его работу. По странной участи, ни одна из партий, господствовавших у нас над общественным мнением, не признавала Пушкина, так же точно в пору его молодости, как и теперь, вполне своим человеком; напротив, каждая из них скрывала от него большую часть своих настоящих мыслей и требований, вероятно, не надеясь на безусловное его повиновение, хотя каждая из них, без исключения, обращалась с ним очень осторожно, словно опасаясь его обличений. Да и было чего опасаться: независимый голос из собственного лагеря глубже потрясает, чем крики, укоры и нападки неприятеля. В последнее время Пушкин поминутно расходился с тем обществом, которому хотел сослужить свою великую службу. Чем более силился он найти ему историческое философское оправдание, чем усерднее воздвигал ему фундамент и основания, которых не стыдно было бы показать всему свету, тем чувствительнее становились для поэта все бесчисленные опровержения и посмеяния, какие наносимы были каждодневно его идеализирующим теориям на практике и притом весьма развитыми и влиятельными людьми эпохи. Пушкин переходил поминутно от верований и надежд к скептицизму и отчаянию. Беспрестанно падая и восставая, он упорствовал держаться против обличений жизни, хотя и без особенных надежд в душе, но с горделивым и quasi-независимым видом. Один неожиданный удар повалил его на землю. Горькая обида, высланная той же средой, об оправдании и интересах которой так много хлопотал, мгновенно подняла его африканскую кровь и обнаружила опять коренные, родовые черты его природы, нисколько не сглаженные временем и выступившие с необычайной силой, как бы после долгого отдыха. Он ринулся на призрачного врага своего, подосланного обществом и заслонявшего его собой — и был вынесен замертво с арены света, которой так дорожил. Полная история развития Пушкина есть также и психическая история общества, где личности поэта пришлось, по собственному его слову — жить, мыслить и страдать.
1874
Примечания
1
После краткой, но обстоятельной и дельной монографии А.П. Ганнибала, составленной М.Н. Лонгиновым и помещенной в «Русском Архиве» 1864 г., № 2-й, все данные для жизнеописания знаменитого арапа, кажется, исчерпаны. М.Н. Лонгинов имел под руками и формуляр Абрама Петровича. Некоторые догадки и заключения, вызванные показаниями этого формуляра, отчасти подтверждаются, отчасти дополняются дальнейшим нашим рассказом, но общий характер биографии знаменитого негра остается, несмотря на эти официальные данные, все еще с оттенком легенды и предания, и признаков полной исторической правды вряд ли когда-либо и получить.
2
Замечание это подтверждается еще и тем, что множество арапников было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя ко двору и частными лицами. Многие из них и назывались Абрамами — именем, как будто уже усвоенным этим несчастным детям. Академик Пекарский упоминает о служителе арапе Абраме, отданном Петром I в обучение в школу при Александро-невском монастыре, где он проходил букварь. Это было в 1725 г., когда наш Абрам Петрович уже возвратился в Россию из Франции и произведен в гвардии-поручики. В «Русском Архиве» 1867 г. помещено еще известие о высылке П.А. Толстым из Константинополя к вице-канцлеру гр. Головнину трех других арапчиков в подарок, причем один тоже назывался Абрамом.
3
Решаемся привести здесь еще анекдот из «Россказней», касающийся Ганнибала, и убеждены, что он не покажется странным в печати. Пушкин записывает: «Однажды маленький арап (в рукописи зачеркнуто Ганнибал), сопровождавший Петра I-го в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: „Государь, Государь! Из меня кишка лезет“. Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал. — Врешь; это не кишка, а глиста, — и выдернул глисту своими пальцами. Анекдот довольно не чист, но рисует обычай Петра».
4
Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в «Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроту — и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» исключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком друзей, в числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуковский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников найдет», направленный против кн. Шаховского и так много смешивший партию анти-шишковскую.
5
См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853, № 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате, шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет последним его словом».
6