Лев Гинзбург - Разбилось лишь сердце мое... Роман-эссе
Русские актеры в XIX веке Шиллера играли совсем по-иному, чем немецкие. Те декламировали, холодно, неумолимо, торжественно, строго несли в зал высокую шиллеровскую мысль. Русские же себя наизнанку выворачивали, рыдали в Шиллере, весь мир несправедливости готовы были Шиллером потрясти, весь лед растопить жаркой слезой.
Мы не видели «игравших на века» на русской сцене Мочалова, Яковлева, Каратыгина, Самойлова, Яворскую, Ермолову, Яблочкину, Остужева, мы родились слишком поздно, но и до нас долетают их голоса, их внутренний жар. Они дорожили принадлежавшей им минутой…
«Лагерь Валленштейна» достался мне случайно, как в театре молодому актеру случайно достается ведущая роль ввиду внезапной болезни прославленного исполнителя. В последний момент, незадолго до сдачи однотомника в производство, от работы над «Лагерем» отказался Михаил Зенкевич. Стали срочно искать замену, никого не нашли, рискнули обратиться ко мне, хотя в моем «перечне произведений» значилось лишь несколько поэтов ГДР и переводы по подстрочнику с татарского языка и с армянского.
Как ни странно, переводы с армянского сослужили мне в работе над «Лагерем Валленштейна» полезную службу. Дело в том, что осенью 1951 года я, совсем еще молодой переводчик, был великодушно включен в бригаду поэтов, которой в Ереване предстояло готовить материалы — то есть книги, циклы стихов и пр. — для очередной декады армянской литературы и искусства; подобные декады всех союзных республик проводились тогда в Москве с необычайной пышностью.
В нашу поэтическую группу входили Илья Сельвинский, Вера Звягинцева, Татьяна Спендиарова, Сергей Шервинский, Ирина Снегова, потом нагрянула шумная, безалаберная ватага обработчиков подстрочной прозы.
Жили хмельно, весело, сдружились с армянскими поэтами, легко изготовляли из сыроватых подстрочников русские вирши. На мою долю выпали сатирические басни, где нужны были игра слов, каламбуры, сочная лексика. Это была хорошая школа. Сам того не сознавая, я набирался опыта для передачи просторечий, смачного словесного озорства, ритмической раскованности.
«Лагерь Валленштейна» раньше переводил Лев Мей — его перевод, сделанный в XIX веке, высоко оцененный тогдашней критикой, считался теперь устаревшим. Возможно, талантливый перевод Мея спасет редактура — осовременят лексику, устранят не всегда уместные руссицизмы («Батька, смотри — не случилось бы худа…», «Князь он, аль нету? Али чеканить не может монету?..», «На поле, на воле ждет доля меня…» и т. д.). В. Зоргенфрей перевел «Лагерь», может быть, слишком педантично, но зато безукоризненно точно.
В состязание со своими предшественниками я вступал, опираясь на то, что уже было ими достигнуто. Иное непонятное мне в подлиннике место можно было прояснить, заглянув в Мея или Зоргенфрея.
В чем же заключалась моя задача?
Передо мной было живописное массовое действо, был полюбившийся мне раешный стих «книттельферз», была многоголосица войска: гогот, рев, брань, стон, жалоба… Сам вышедший недавно из солдатской среды, я мог, пожалуй, передать это достаточно живо. В знаменитом монологе капуцина, отмеченном у нас и Толстым, и Тургеневым, перемешались пророчества и каламбуры, латынь и похабщина. Сумбурное, вздыбленное, барочное время. Я чувствовал, что, опираясь на шиллеровский текст, одолеваю своих предшественников.
Целомудренного Мея:
То-то не очень-то глотку дери,
Чаще молися: помилуй, Создатель!
Нежели вскрикивай: черт побери!
Корректного Зоргенфрея:
Рот-то разинуть — должен сказать я
Так же легко для «господи спаси!»,
Как и для «дьявол тебя разрази!»…
Я вколачивал:
Ведь как будто ничуть не трудней сказать:
«С нами божья матерь!», чем «В бога мать!»…
Радовался: у меня крепче!
Главное, однако, состояло в другом. В том, чтобы пробиться к персонажам, различить в гигантской солдатской массе лица, характеры, судьбы. Шиллер внушал: надо всех их понять, не возвышаться над ними. Сочувствовать. Каждый здесь, в этой одичавшей, свирепой толпе, несчастен по-своему. Всем худо. Все неприкаянны. Всех гонит «страшенная сила» — метла войны. Каждый заслуживает снисхождения. «Жаль их, они неплохие ребята…» «Видит бог, горемычная жизнь у нас…» «Не для нас золотые колосья шумят, бесприютен на свете солдат…» Такие реплики для меня в пьесе дороже всего.
Эх, парень! Дурные пошли времена…
Вот в чем, на мой взгляд, таился ключ к пониманию ландскнехтов, которых слепая жажда свободы привела к Валленштейну: вахмистра, кирасир, аркебузиров, стрелков, рекрута. Смягчающие обстоятельства изыскивались и для шулера-крестьянина, в свою очередь обворованного солдатней, и для старого пройдохи, бродячего миссионера-капуцина, да и для самого герцога Валленштейна.
Опутанный приязнью и враждой,
В истории проходит этот образ.
Но долг искусства — к взорам и сердцам,
Как человека, вновь его приблизить.
Оно, храня во всем и связь и меру,
Все крайности приводит к правде жизни
И в гуще жизни видит человека,
И потому на мрачные созвездья
Оно слагает главную вину…
«Мрачные созвездья» — объективный ход истории — это то, что стоит над осознанными поступками людей, которые «в гуще жизни», в повседневности, разумеется, несут ответственность за свои действия, но оправданы могут быть (то есть поняты, по принципу: понять — простить) одним лишь искусством.
Не смеет повседневность
И не должна глумиться над искусством!..
Так шло время, шел к концу год 1952-й, бедный внешними событиями, полный предощущений перемен. В тишине прокуренной ванной комнаты в квартире в Печатниковом переулке я чуть ли не круглыми сутками изо дня в день общался с Шиллером.
И однажды, на раннем рассвете, грянула заключительная песнь всадников:
Друзья! На коней! Покидаем ночлег!
В широкое поле ускачем!
Лишь там не унижен еще человек,
Лишь в поле мы кое-что значим.
И нет там заступников ни у кого,
Там каждый стоит за себя самого…
Я понял, что в моей жизни произошло нечто большее, чем завершение крупной литературной работы: я прошел еще одну школу.
3
В ноябре 1959 года в составе делегации Союза писателей я попал на двухсотлетие Шиллера в Веймар.
Веймар был в гирляндах, флажках, в бесчисленных портретах Шиллера, на голубых транспарантах белели даты: 1759–1959. В гостинице «Элефант» кельнеры в белых перчатках подавали меню: на лицевой стороне знаменитый профиль, на обороте перечень блюд… Каждый приехавший в город мог вообразить себя гостем Шиллера. Вечером в глубине его дома, во всех окнах запылали зажженные свечи. Казалось, там идет торжество, стоит только войти… Во дворе герцога заседала Академия искусств. В театре давали «Дон Карлоса». Над городом плыли мелодии: увертюра к «Эгмонту», финал 9-й симфонии — «Обнимитесь, миллионы!». Улицы были запружены народом: на торжество приехали делегаты из шестнадцати стран, всех округов ГДР.
В театре я посмотрел «Валленштейна» — всю трилогию за один вечер. «Лагерь» показался мне решенным удивительно верно: натиск, напор, человечность. Безбородый капуцин произносил свой монолог не только темпераментно, но и с горьким сарказмом. В громком солдатском хохоте, которым встречались его каламбуры, звучало скрытое сочувствие.
Финал — «Песнь всадников» — таил в себе трагедийность.
Люди, которым уже нечего было, терять и не на что надеяться, ставили на кон последнее: жизнь. Сидя верхом на деревянных скамейках, притопывая сапогами, они скандировали:
Ставь жизнь свою на кон в игре боевой
И жизнь сохранишь ты, и выигрыш — твой!..
Но были ли они убеждены в том, что выиграют?..
Ранним утром 10 ноября к площади перед Веймарским театром, которым некогда руководил Гёте, для которого писал Шиллер и в котором в 1918 году провозгласили Веймарскую республику, потянулись, обнажив головы, делегации с венками.
Пахло торфом, сигарами, химией — то был запах Германии; Гёте и Шиллер стояли, окутанные утренними дымками, взявшись за руки, в бронзовых, позеленевших камзолах, в позеленевших тупоносых бронзовых туфлях с большими пряжками. Я смотрел на них, и меня охватывало странное чувство причастности к ним — через стихи, через кровь, которая переливается из строк в строки, пугающее чувство общности с чем-то беспредельным.
Уже на склоне лет я понял, из чего возникло это чувство. Оно возникло из ощущения всевластия перевода, его, только ему присущей способности раздвигать или передвигать время. Попробуйте по-русски написать поэму в манере «Медного всадника», точно имитирующую пушкинскую образность, лексику, мелодию его стиха, и вы не создадите ничего, кроме эпигонского мертвого сочинения или пародии. Но переведите того же «Медного всадника» на другой язык, и слово оживет в своей первозданной силе. Архаизмы придадут поэме свежесть и новизну, устаревшая форма — благородную прочность, и то, что на языке подлинника удручало бы подражательностью, в переводе блеснет, как первооткрытие. Можно ли по-немецки создать роман в стиле «Вертера» или пьесу, равную (не по силе, а по словесному и драматургическому материалу) трагедиям Шиллера? Но приходит Пастернак, и «Мария Стюарт» волей переводчика несет вам достовернейший потрясающий шиллеровский текст, а в «Вильгельме Мейстере» и «Вертере», переведенном в наши дни Касаткиной, благоухает живой XVIII век!..

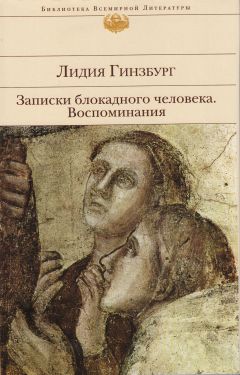
![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/uploads/posts/books/13908/13908.jpg)