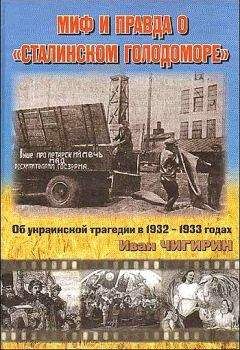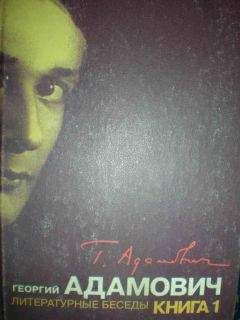Георгий Адамович - Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)
— В тылу думают, что война — это схватки штыковые атаки, страдания, страх смерти, и никто не знает, что война — это жизнь, полнокровная жизнь, только в других условиях, по-иному. Соловин не уезжает в тыл, хотя и запасся свидетельством о контузии, потому что ждет, не выйдет ли ему полковничий чин прежде, чем начнутся опасные бои. Кольцов готов не сходить с наблюдательного пункта, лишь бы уйти с войны командиром батареи, со столовыми, суточными и приварочными… Ни один человек на войне не ставит ставку на смерть. Все делается в расчете на вечную или, по крайней мере, долгую жизнь, и для того, чтобы оградить эту жизнь, люди прячутся в кусты, нагибаются, когда свистит снаряд, бросаются в неприятельский окоп и заряжают орудия двухпудовыми бомбами.
С офицерами у Андрея налаживаются приятельские отношения, — тем легче, что многие из них, как и он, бывшие студенты. С солдатами сойтись труднее. Солдаты охотно слушают рассказы Андрея о «звездах, о Боге, об истории, о других странах и городах». Но Андрей чувствует себя среди них «не собеседником, а приезжим лектором». Откровенности и близости нет.
Война затягивается. Надежды на победу слабеют. Недостаток снарядов дает себя знать все сильнее. Настроение падает. Сначала Андрей пытался объяснить себе ход военных действий по-толстовски, т. е. полагая, что судьбу сражений решают тысячи мельчайших непредвидимых и неустранимых случайностей.
Ему вспомнились «великолепные страницы "Войны и мира"».
– Эти страницы отнимали у Цезаря его блестящую тактику в Галлии: у Сертория — умение подвижными, но слабейшими иберийскими отрядами громить тяжелые и устойчивые легионы Помпея и Метелла; у Наполеона — чутье, помноженное на расчет гения, как это было у Ульма, Аустерлица и Ваграма. Они лишали всякой поэзии этот блестящий мир борьбы и побед, который дворянская Россия через школу и искусство прививала всем без различия молодым людям в стране.
Но теперь Андрей понимает, что победить должен тот, кто лучше вооружен. «Талант или тупость генералов, храбрость офицеров, дух армии, планы штабов, преимущество территории, число дивизий — все это второстепенно. Солдат с прикладом слабее солдата с пулеметом». Исчезновение веры в победу оставляет в душе и сознании Андрея пустоту. «Вера эта строилась на воспоминаниях из национальной истории, преподанной так, что раздел Польши, захват Крыма, разгром Швеции казались фактами настоящими, оправданными, как бы предопределенными, а война с Японией или крымская кампания относились к числу недоразумений». Иллюзии рассеялись. Их место ничем не занято. Вся вторая часть повествования полна глубокого внутреннего смятения: Андрей и так человек не Бог весть какой стойкий и крепкий, а в потоке событий он и подавно превращается в «щепку». Рушится мир, в котором он вырос и жил, на смену же ему пришло нечто чуждое и враждебное — славный полк равнялся пятидесяти человекам с сорока винтовками, со знаменем, но без патронов, крепость оказывалась бабьим решетом, плевательницей, генерал — старикашкой, годным только для партии в экарте, пулемет – кашляющей, облезлой, расхлябанной машинкой, которая никогда не стреляет в те минуты, когда это необходимо, а солдаты – это уже не ряды, но лица, лица без конца, с бородами, бритые, с широкими и узкими ногтями, смирные и злые, молчаливые и болтливые, послушные и строптивые, которые хороши в рядах под равняющим действием дисциплины, но непонятны, неожиданны и страшны в своем разнообразии, когда распадаются ряды.
Андрей тяжело заболевает. Из госпиталя он бежит домой, в свой родной, глухой провинциальный городишко на Днепре. В дороге беседует с другими дезертирами и, по старой привычке, пытается их образумить. Те к его патриотическим доводам равнодушны:
– Кому нужно, тому что ж… Той пускай и воюет. А нам без надобности.
Андрей не сдается. А если немцы отберут всю землю? А если немцы всех обратят в рабство?
– Ты, наверное, из образованных будешь, я вижу. Ишь ты, как мудрено. Если да если. Что да что…
Беседа обрывается. Один солдат, впрочем, добавляет:
– Вольноперы, они все за войну. Потому хочут в охвицера выйти.
Из дому Андрей возвращается на фронт, потом в Петербург. Там — суета, сплетни, показное участие, а за ним безразличье. Говорят только о Распутине.
– Ах, война так двинула у нас общественную жизнь, — восклицает тетка Андрея. — В обществе равноправия женщин каждый день заседания. Теперь столько дела. А людей что ж? Шишкина и Явейн, да я, вот и все.
И тут понижает голос:
— Неужели армия не придет в Царское Село? Ну, хотя бы гвардия. Гвардия нередко меняла судьбу страны… Ведь это все — она. Все зло — от нее. Распутин — это возможно только в России. Говорят, у него из-под шелковых рубах воняет козлом. Брр…
Андрей подавлен окончательно. Нервы его едва выдерживают напряжение: Он чувствует, что «вышиблен» из жизни — и не может в нее вернуться. Да и не хочет: он обижен на жизнь и на прежних своих друзей за то, что они, в сущности, обошлись без него, не ощутив пустоты. Он одинок и ищет из одиночества выхода.
Дальше брезжит, конечно, «заря революции». Но только брезжит. Ее еще не видно, и роман ни на чем не кончается. Это и лучше: остается впечатление большой правдивости и большой зоркости. На русском языке таких книг о войне немного; пожалуй, такой книги еще и не было. Имею в виду, разумеется, только последнюю войну, потому что войны предыдущие — это «дьявольская разница», по пушкинскому выражению. Севастополь уже отдает древней историей, а о двенадцатом годе нечего и говорить.
Если бы Лебеденко создал только фон своей книги — походное житье-бытье нескольких заурядных офицеров, — то и тогда его следовало бы признать настоящим художником.
ШОЛОХОВ
Его успех у читателей очень велик. В советской России нет библиотечной анкеты, где бы имя Шолохова не оказалось бы на одном из первых мест. В эмиграции — то же самое. Принято утверждать, что из советских беллетристов наиболее популярен у нас Зощенко. Едва ли это верно. Зощенко «почитывают», но не придают ему большого значения, Зощенко любят, но с оттенком какого-то пренебрежения… Шолохова же ценят, Шолоховым зачитываются. Поклонники у него самые разнообразные. Даже те, кто склонен видеть гибельное дьявольское наваждение в каждой книге, приходящей из Москвы, выделяют «Тихий Дон». Еще совсем недавно мне удалось беседовать с одним почтенным земцем, человеком простодушным и пылким, который держал в руках роман Шолохова и приговаривал:
— А, здорово! Здорово! Ловко, негодяй, пишет. Замечательно наворачивает, подлец. Здорово!
В глазах его было искреннее удивление: советский писатель, а не совсем бездарен и туп; на книжке пометка Государственного издательства, а читать не противно. «Ну, да ведь это казак!» — нашел он вдруг неожиданное объяснение.
Успеху Шолохова критика содействовала мало. В России о нем только в последнее время, после «Поднятой целины» и третьего тома «Тихого Дона», начали писать как о выдающемся художнике, которому приходится простить некоторую противоречивость его социальных тенденций. В эмиграции критика занималась Шолоховым лишь случайно. Леонову или Бабелю, Федину или Олеше у нас больше повезло. Шолохов оставался в тени. Но это не помешало ему «пробиться к читателю» и опередить в читательском «благоволении» всех тех, о которых в печати было больше толков. Популярность его разрастается.
У Шолохова, несомненно, большой природный талант. Это чувствуется со вступительных страниц «Тихого Дона», это впечатление остается и от конца романа, — хотя третий том его, в общем, суше, бледнее и сбивчивее первых двух. «Поднятая целина» по замыслу мельче. Но в ней все, о чем рассказывает Шолохов, живет: каждый человек по-своему говорит, всякая психологическая или описательная подробность правдива. Мир не придуман, а отражен. Он сливается с природой, а не выступает на ней своенравно наложенным, чуждым рисунком. Искусство Шолохова органично.
В заслугу ему надо поставить и то, что он не сводит бытие к схеме в угоду господствующим в России тенденциям, — как это случается, например, у богато одаренного, но растерянного и, кажется, довольно малодушного Леонова… Шолоховские герои всегда и прежде всего люди: они могут быть коммунистами или белогвардейцами, но эта их особенность не исчерпывает их внутреннего мира. Жизнь движется вокруг них во всей своей сложности и бесцельности, а вовсе не для того только, чтобы закончено было какое-либо «строительство» или проведен тот или иной план. В повествование входит огромное количество действующих лиц. Некоторые из них эпизодичны, на их долю достается всего-навсего какая-нибудь одна фраза. Но если через триста страниц это лицо снова вынырнет, оно окажется уже знакомо, и автор никогда не наделит его чертами, которые бы не согласовались с уже известными. Все у Шолохова очень «ладно сшито». Он знает, о чем пишет, — знает не только в том смысле, что касается близких себе общественных слоев, но и в том, что видит и слышит все изображаемое, как будто бы в действительности оно было перед ним. Фальши нет почти совсем.