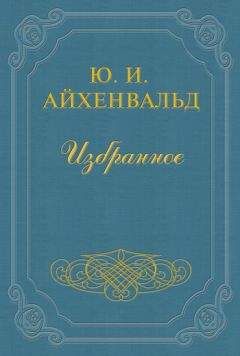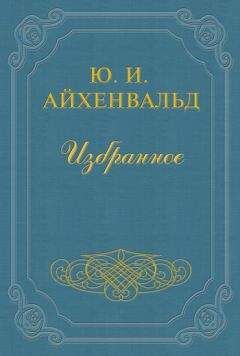Юлий Айхенвальд - Лев Толстой
Поэт жизни, глубоко имманентный ей, не ищущий красоты и смысла над нею или вне ее, он в своем органическом уклонении от всякой риторики и декламации находит, как и Левин, что «слова снимают красоту» с вещей и «благородные слова редко сходятся с благородными делами» и «великое слово портит великое дело». Толстой не то что боится фразы и позы, а просто не умеет их, и, целомудренный, застенчивый и в своей застенчивости кажущийся угрюмым, он бережется, как бы словом не оскорбить жизни, не оскорбить правды: ведь слово так легко переходит в словесность. Его не прельщает человечество «французское», театральное и нарядное с его героями и гениями, все эти афоризмы, изречения, девизы – блестящие вывески, парадные спектакли истории. Наполеона, этот воплощенный эффект, он развенчивает и презирает, отказывает ему в гениальности, противопоставляет ему не только прозаического Кутузова, но и, главным образом, Каратаева с его «круглотою». Он в подвиге заметит пошлость или, по меньшей мере, снимет с него наряд и парад, обнаружит его неэстетичность – и, в бесстрашии толстовского реализма, девочка, которую спасает из пламени Безухое, оказывается золотушной, неприятной, вызывает гадливость. Певец простодушия, певец классического русского простеца, он отвергает всякую мишуру и позолоту и разрушает мнимую торжественность. Ему, напротив, приятны и милы всяческие неловкости (он сам неловкий) – то, например, как Левин во время венчания путается руками с Кити и ни за что не может понять, чего хочет от него священник. Или для него удовольствие – спугнуть благолепие именинного обеда звонким возгласом Наташи: «Мама, какое пирожное будет?» Ту жизнь, которая ему не нравится, в которой он видит внутреннюю ложь, он всегда изображает как обряд, берет ее с ее механической и внешней стороны. Он рассеивает ложь своею победоносной правдой. Он опасен и страшен тем, что проникает в затаенные побуждения человека, любит переводить его, часто обманные, слова на язык их истинного смысла; он разоблачает в других и в себе самое тонкое притворство и лицемерие, в котором иной раз и сам не даешь себе отчета. Он знает человеческую нецельность, нестройность, и даже его лучезарная Мария Болконская таит в себе злое чувство к своей прежней сопернице Соне. Влюбленный и влюбляющий в Наташу, он не скроет ее физического увлечения. Он услышит, что немец-полковник «с видимой радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки» звучно отрубит красивое слово наповал, когда будет доносить о своих убитых гусарах. Он почует тщеславие горести, он и в сердце матери подметит «затаенное чувство недоброжелательства, которое всегда есть у нее против будущего супружеского счастья дочери», и в отношениях мужа к жене укажет на перемежающееся чувство «тихой ненависти». Часто люди у него, как в беседе Воронцова с Хаджи-Муратом, говорят одно, а глаза их выражают другое, и вот это разногласие и вечный поединок, в котором находятся уста и глаза, как никто, подмечает и разоблачает Толстой. Он никогда мощью своего анализа не позволит себе и нам обмана и самообмана.
Это постоянное изобличение могло бы превратиться в нечто недостойное и мелочное; но знаменательно и отрадно в нем, писателе строгом, что, разоблачая с такою неумолимой силой, с такой беспощадной к себе и к другим проницательностью, он, однако, не приходит к скептицизму, к отрицанию людей. Он не Ларошфуко, этот, по выражению Ницше, меткий стрелок, который всегда попадает в черноту человека. Толстой без идеализации обретает идеал. В неудержимом тяготении к серому и затрапезному одеянию быта, сняв с него все пышные и праздничные уборы, от полководцев спустившись к Акиму, чистящему городские ямы, с его тае вместо слов, и еще в большем тяготении к обнаженной душе, к жизни раскрытой, к людям изобличенным он именно в этой наготе увидел нечто утешительное и прекрасное. Не нужен возвышающий обман, потому что не низка истина. Это ничего, что, хранитель правды, враждебный эффектам, он должен был рассказать, как при первом свидании с Нехлюдовым в тюрьме – свидании, которого с таким напряженным трепетом ожидают читатели, – Катюша Маслова попросила у последнего десять рублей; это ничего, вы не станете презирать Маслову, не откажете ей в человечности. Правда не презренна. А с другой стороны, характерно для Толстого разжалование героя. Творец Платона Каратаева отнял у нас Наполеона, безжалостно разбил воздушный корабль по синим волнам океана и все эти красивые сказки про двенадцать часов по ночам. Горе той легенде, к которой приближается Толстой, – но зато счастье правде! Зато он, в сущности, только и делает, что открывает неведомые раньше человеческие клады, – хотя бы этого маленького, незаметного капитана Тушина, про которого все забыли и который, «не выпуская своей носогрейки», бегал от одного орудия осыпаемой ядрами батареи к другому и оказался истинным героем Шенграбена. Величие малого, красота некрасивого, обаяние обыкновенности показаны Толстым так ярко и проникновенно, и в этом – источник оптимизма. Он утешает человечество, узнающее себя в его книгах, он дает силы жить; сама жизнь не знала, он перед ней обнаружил, как она хороша и сколько чистого и возвышенного поднимается кругом нас. Доверие к реальному, невыдуманному и слабому человеку с его «простым, комнатным лицом» – оно не дороже ли того благоговения к людям, которое ценит в них только подвиг, только ореол, только исключительность?
Зато уж если Толстой свидетельствует о красоте или торжественности какого-нибудь жизненного момента, то веришь ему всей душою, как никому, и радостно и горделиво становится на этой вознесенной душе. Когда он пишет о самоотвержении, о героизме и благородной победе над инстинктом самосохранения или рисует севастопольские твердыни и этого не испугавшегося смерти офицера Козельцова, который умирает, не зная, что на Малаховом кургане уже развевается французское знамя (его праведным обманом обманул священник, сказав, будто победа осталась за русскими), и слабыми руками берет крест, прижимает его к губам и плачет и в свое последнее мгновенье думает о брате: «Дай Бог ему такое же счастье», т. е. счастье доблестной смерти; когда Толстой описывает, как доктор молча поцеловал в губы лежавшего на операционном столе смертельно раненного князя Андрея; когда он говорит о сборе винограда, о сиренях и соловьях, о даме в белом платье и с перлами, в которую из глубины своего оркестра, в театре, влюбился бедный скрипач Альберт, или о казачке Марьяне, которая была «отнюдь не хорошенькая, но красавица», то вся эта поэтичность и пленительность, все это идеальное и необыкновенное, весь этот чудный романтизм проникают в нас с особенною силой, потому что они прошли через испытующее горнило его аскетически-правдивого духа и, на фоне общей реалистической строгости и честности Толстого, выступают перед нами не только как светлая красота, но и как правда, – и мы уже знаем наверное, наверное, что все это так и было, что Марьяна была красавица. На Толстого можно положиться.
В том испытании, какому он подверг человека, большую роль играет реакция на смешное. Но и из смешного вышел человек серьезным, но и здесь, под рукою Толстого, тоже часто возникает нечто растрогивающее. Вот декабрист Петр Иванович вернулся в Москву из сибирских пустынь – он провел в ссылке тридцать пять лет. Не приготовив сестры, старик с белыми волосами, он прямо явился к ней. Та, решительная, сильная, добрая, встретила его так, как будто виделась с ним вчера. Но потом она «еще раз взглянула на седую бороду, на плешивую голову, на зубы, на морщины, на глаза, на загорелое лицо – и все это узнала»… «Какой ты дур…» – голос ее оборвался, она схватила своими белыми, большими руками его плешивую голову. Какой ты «дурак», она хотела сказать, «что не приготовил меня»… но плечи и грудь задрожали, старческое лицо покривилось, и она зарыдала, все прижимая к груди плешивую голову и повторяя: «Какой ты ду… рак, что меня приготовил»… И голова Петра Ивановича была в руках сестры, «нос прижимался к ее корсету, и в носу щекотало, волосы были спутаны, и слезы были в глазах. Но ему было хорошо». Или Николенька Иртеньев, уезжая в Москву из деревни, в невыразимой горести разлучается со своей мамой (словно предчувствует он, что ему не суждено больше видеть ее), и в последний момент прощания они нечаянно стукнулись головами; «она (maman) грустно улыбнулась и крепко-крепко поцеловала меня в последний раз». Или, подавленный изменой жены, Каренин во время одного из мучительных объяснений с нею говорит о своих муках, о том, что вся жизнь его нарушилась, что он так много «пеле…педе…пелестрадал». Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец «пелестрадал». Ей (Анне) стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. У Толстого нет ложного стыда перед жизнью. Он знает, что она косноязычна. И под оболочкой смешного увидел он красоту.