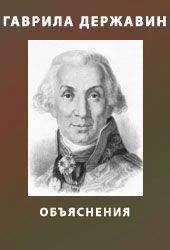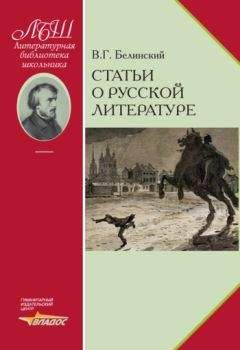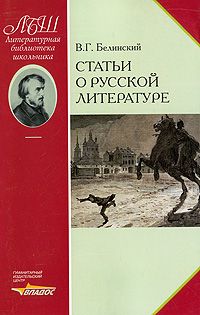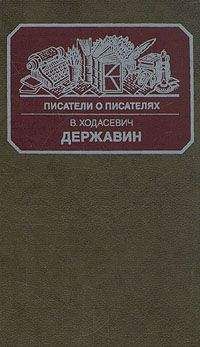Виссарион Белинский - Сочинения Державина
Вот эта поэзия, не риторика! Правда, и в этих стихах не без недостатков; но они извиняются духом времени. Во время Державина нельзя было сказать: «достойный подвиг русской силы»: это было бы низко и несогласно с парением оды; непременно нужно было сказать: «достойный подвиг росской силы»: слова «росский» и «росс» казались тогда не только необыкновенно звучными, но и отменно умными… Выражения: наперсник у северной Минервы, друг Аполлона во храме муз, вождь на поле Марса, для нас слишком прозаичны, но, по понятиям того времени, в них-то и заключалась вся сущность поэзии. За этими прекрасными поэтическими строками опять следует риторика, и притом довольно нескладная:
Се ты, небесного плод дара
Кому едва я посвятил;
В созвучность громкого Пиндара
Мою настроить лиру мнил;
Воспеть победу Измаила.{5}
Воспел… Но смерть тебя скосила!
Увы! и хоров сладких звук
Моих в стенанье превратился;
Свалилась лира с слабых рук,
И я там в слезы погрузился,
Где бездна разноцветных звезд
Чертог являли райских мест.
За этою риторикою опять следует поэзия:
Увы! и громы онемели,
Ревущие тебя вокруг;
Полки твои осиротели,
Наполнили рыданьем слух;
И все, что близ тебя блистало,
Уныло и печально стало.
Потух лавровый твой венок,
Гранена булава упала,
Меч в полножны войти чуть мог, —
Екатерина возрыдала!
Полсвета потряслось за ней
Незапной смертию твоей!
Теперь опять голая риторика:
Оливы свежи и зелены
Принес и бросил Мир из рук.
Родства и дружбы вопли, стоны.
И муз ахейских жалкий звук
Вокруг Перикла раздается:
Марон по Меценате рвется.
Который почестей в лучах,
Как некий царь, как бы на троне.
На сребророзовых конях,
На златозарном фаэтоне,
Во сонме всадников блистал
И в смертный, черный одр упал!
За риторикою опять следуют проблески поэзии:
Где слава? где великолепье?
Где ты, о сильный человек?
Мафусаила долголетье
Лишь было б сон, лишь тень наш век,
Вся наша жизнь не что иное,
Как лишь мечтание пустое.
Иль нет! тяжелый некий шар,
На нежном волоске висящий,
В который бурь, громов удар
И молнии небес ярящи
Отвсюду беспрестанно бьют,
И, ах! зефиры легки рвут.
А вот и чистая поэзия:
Единый час, одно мгновенье
Удобны царства поразить,
Одно стихиев дуновенье
Гигантов в прах преобразить;
Их ищут места – и не знают;
В пыли героев попирают!
Героев? Нет! но их дела
Из мрака и веков блистают;
Нетленна память, похвала
И из развалин вылетают;
Как холмы, гробы их цветут;
Напишется Потемкин труд.
Теперь опять риторика:
Театр его был край Эвксина,
Сердца обязанные – храм;
Рука с венком – Екатерина;
Гремяща слава – фимиам;
Жизнь – жертвенник торжеств и крови,
Гробница – ужаса, любови.
Следующие за тем пять строф, изображающие страх турков при мысли об Измаиле и радость «Россиян» при взгляде на русский флот в Черном море, – преисполнены риторики и в мысли и в исполнении. Остальные девять строф исполнены поэзии, особливо эти две:
Поутру солнечным лучом
Как монумент златой зажжется,
Лежат объяты серны сном,
И пар вокруг холмов виется,
Пришедши, старец надпись зрит:
«Здесь труп Потемкина сокрыт!»
Алцибиадов прах! И смеет
Червь ползать вкруг его главы?
Взять шлем ахиллов не робеет,
Нашедши в поле, Фирс? Увы!
И плоть и труд коль истлевает;
Что ж нашу славу составляет?..
Мы разобрали одно из лучших стихотворений Державина, и это дает нам право не делать дальнейших разборов такого рода, ибо они загромоздили бы статью выписками. Итак, повторяем, что невыдержанность в целом и частностях, преобладание дидактики, сбивающейся на резонерство, отсутствие художественности в отделке, смесь риторики с поэзиею, проблески гениальности с непостижимыми странностями – бот характер всех произведений Державина.
Какая же, спросят нас, причина этого: та ли, что Державин не поэт; та ли, что его талант был незначителен, или что у него вовсе не было таланта?
Ни то, ни другое, ни третье… Ответ на этот вопрос уже сделан нами в начале статьи: что было там высказано нами в общих чертах, как теория, то приложим мы теперь к вопросу о поэзии Державина, как к факту.
Державин был человек, одаренный великими творческими силами, – и он сделал все, что можно было ему сделать в то время. Не его вина, что он явился в то, а не в наше время; не его вина, что поэзия не падает готовая прямо с неба, а вырастает на земле, переходя через все степени развития, как все растущее.
Поэзия в каждой стране имеет свою историю, итак, не удивительно, что и в России она также имела свою историю. Отец русской поэзии, патриарх русских поэтов, был не столько поэт, сколько ученый: мы говорим о Ломоносове. Поэзия русская не была туземным цветом, свободно и самобытно развившимся из почвы национального духа; но, подобно нашей европейской цивилизации и нашему европейскому просвещению, она была прививным, или – еще вернее сказать – пересаженным растением.{6} И вот здесь-то заключается живая связь Петра Великого с Ломоносовым, как причины с следствием; наши критики обыкновенно упускают из виду это обстоятельство: они обвиняют русскую литературу в подражательности, в отсутствии оригинальности и в то же время признают Пушкина, Грибоедова и других новейших писателей оригинальными поэтами, не понимая того, что если б наша поэзия до Пушкина не была подражательною, то и поэзия от Пушкина не могла бы быть оригинальною и народною… Да, подражательность первых наших поэтов искупила собою оригинальность последующих. И это обстоятельство дает особенный характер нашей поэзии и ее историческому развитию. История нашей поэзии до Пушкина вся заключается в усилии из риторики сделаться поэзиею, из книжной и школьной стать естественною, из подражательной – оригинальною. Ломоносов сообщил русской поэзии характер чисто риторический, чисто школьный и книжный, – и велико дело его, свят его подвиг! Нам нужна была поэзия, во что бы то ни стало, – и Ломоносов дал нам именно такую поэзию, кроме которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому гению, дать было невозможно. О Ломоносове вообще утвердилось мнение, что он был ученый и нисколько не поэт; этого мнения нельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положим, что Ломоносов был столь же поэтическая натура, как и сам Пушкин; но вот вопрос: как и в чем бы высказалась его поэтическая натура? Откуда бы почерпнул он сознательную идею о существовании поэзии и о своем поэтическом призвании? – Из общества? Но тогдашнее общество не имело никакого понятия о поэзии, еще менее чувствовало потребность в ней, – и если оно смотрело на стихи Ломоносова не как на пустое балагурство, а на него самого не как на шута, – причиною этому был не талант Ломоносова, а покровительство Шувалова, внимание императрицы… Следовательно, для сознательной идеи поэзии Ломоносову был один путь – книга, учение, наука, знакомство с Европою. Так оно и было. Теперь спрашивается: мог ли Ломоносов не подчиниться влиянию своих немецких учителей, и образцы тогдашней немецкой поэзии могли ли дать поэтической деятельности Ломоносова другое направление, нежели то, которое действительно ей дали? Скажут: истинный гений не покоряется чуждому влиянию и руководствуется только собственным творческим духом… Да, это правда, не покоряется, – но только тогда, когда уже выработаны и готовы материалы, из которых гений может творить; иначе в историческом процессе не бывает. И вот почему иногда пришествие одного гения приготовляется столькими другими, из которых иные, может быть, потому только кажутся меньше его, что явились прежде его, что история осудила их на низшие предварительные работы. Петр Великий, в одно и то же время работавший и умом и топором, представляет собою, в этом отношении, дивное исключение из общего правила. Итак, что же оставалось делать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теории, тогда как в поэзии других народов практика родила теорию, факт возбудил потребность сознания. И вот Ломоносов думает о том, что такое поэзия, как она должна быть, и, разумеется, смотрит на этот предмет, как смотрели на него немцы того времени. Потом ему нужно было подумать о языке, о версификации, ибо до него не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написанного не силлабическим размером, чуждым духу и несвойственным гибкости и богатству русского языка. (Тредьяковского тут нечего брать в расчет.) Что же было ему петь? Любовь? – Но для выражения той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народных свадебных песен, а о другой оно и не заботилось. Нет, Ломоносов пел то, что было ближе к делу, что заключалось в самой действительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертию Петра Великого и осветило ее вновь только с восшествием на престол Екатерины Великой; после ужасов бироновской тирании царствование Елизаветы I по справедливости казалось эпохою столь же счастливою, сколько и славною, – и Ломоносов пел «блаженство дней своих», пел «любезные ему науки в дражайшем отечестве». Больше нечего было бы петь в то время и самому Шекспиру. Говорят, стихи его обличают оратора, а не поэта: да иначе и быть не могло, даже и в таком случае, если бы Ломоносов был столько же поэтическая натура, как и Пушкин. Но вот еще вопрос: почему стихи Ломоносова так необыкновенно хороши по своему времени? Почему из его современников никто не писал таких хороших стихов? Почему стихи Сумарокова, который более Ломоносова был предан поэзии и который явился после него, так далеко хуже ломоносовских стихов? Отчего стихи Державина сделали, после стихов Ломоносова, такой малый шаг вперед, и то в самых лучших его стихотворениях, тогда как в большей части нелучших они хуже, чем стихи Ломоносова в оде «К Иову», в «Утреннем» и «Вечернем размышлении о величестве божием», которые отличаются чистотою языка, обличающею в творце их человека ученого? Конечно, «Мокрый амур» Ломоносова далеко не пойдет в сравнение с анакреонтическими стихотворениями Державина, но, по своему времени, это удивительное стихотворение. Итак, вопрос о поэтическом призвании и таланте Ломоносова пока все еще только – вопрос, и едва ли есть возможность решить его положительно или отрицательно.