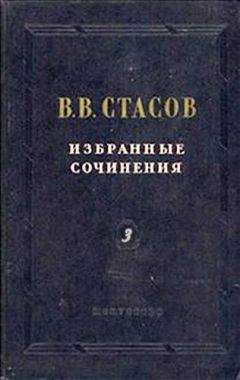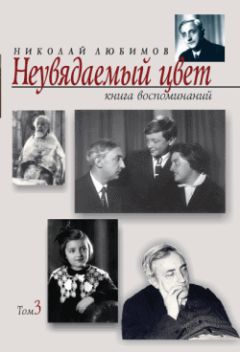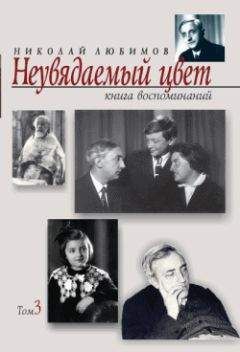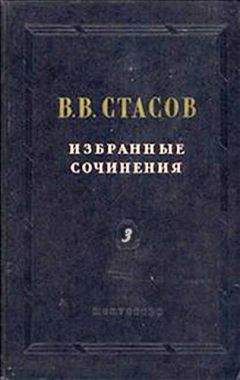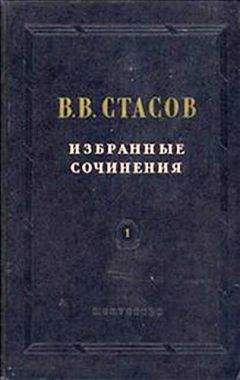Владимир Стасов - Заметки о демественном и троестрочном пении
Нет, все это к истории вообще, и к истории Западной Европы в особенности, не применимо; ни один из приведенных фактов не мог существовать, и мы смело можем сказать: не существовал; тем более смело, что мы имеем на своей стороне как летописи, так и музыкальные сочинения рассматриваемых эпох и, наконец, теоретические сочинения о музыке как греческие, так и европейские средневековые. Во всех этих памятниках мы встречаем постоянно один и тот же результат: решительное отсутствие всякого известия о многоголосности. Известно, что во все продолжение средних веков с особенною любовью прилеплялись к трактатам, дошедшим от древности, и делали их исходным пунктом для всех исследований; известно, что тогда почитали главною задачею науки не столько, изложение собственной мысли и исследования, собственного воззрения, сколько возможно полную иллюстрацию мысли и изложения которого-либо из ученых древности. Поэтому-то они обращались к отыскиванию и исследованию сочинений по всем частям науки или искусства, и иллюстрировали сохранившееся сочинение такими многообъемистыми и подробными комментариями, что нередко несколько страниц оригинального древнего текста превращались в толстые квартанты и фолианты. С музыкой было, в этом случае, как со всеми прочими знаниями и исследованиями. Но между тем, как с необыкновенною любовью и подробностью средневековые ученые излагают молодую, недавно народившуюся гармоническую науку, и между тем, как с неменьшею подробностью и пространностью они рассматривают все части греческой музыки и греческой музыкальной науки, они нигде даже в виде предположения не поминают о том, чтоб новое открытие гармонии было скопировано или заимствовано у Греции. Таким образом, ни практические музыканты-сочинители, ни теоретические ученые исследователи и комментаторы ничего не знают (и это в продолжение многих столетий) о том, что нам выдают за факт достоверный и совершенно ясный. Которой же стороне должны мы поверить? И не странно ли то обстоятельство в особенности, что в Греции будто бы существовала гармония и многоголосность в продолжение нескольких столетий, а потом исчезла решительно и начисто до такой степени, что ни одной музыкальной строчки в доказательство ее существования не осталось; не осталось также ни одной строчки, ни одного слова свидетельства какой бы то ни было летописи или книги, тогда как обо всех остальных пунктах сохранилось достаточное количество и памятников, и свидетельств? Не странно ли все это?
Но если от совокупности доказательств этих, заимствованных из причин внешних и исторических, мы обратимся к рассмотрению самого дела в его сущности, то тут будем иметь еще более случая удивляться неосновательности тех положений о многоголосном пении в России, которые находятся у нас во всеобщем употреблении, под видом истин неопровержимых. Наши писатели говорили о многоголосном пении в Греции и России точно так, как будто они рассматривали то и другое. Между тем этого сделано не было, и потому самому они не имели никакой возможности, ни права определить: хорошо ли было или нет это вовсе неизвестное пение и должно ли иметь для нас важность или нет восстановление его? Более всего удивляют нас известия о пении восьми-, двенадцати- и двадцатичетырехголосном, будто бы дошедшем до нас из древней России. Но где же эти образцы, о которых нам везде говорят в темных выражениях и на которые, однакоже, нам нигде положительно не указывают? Пусть нам укажут на русские певческие сочинения больше, чем в 4 голоса, которые были бы сочинены раньше XVIII столетия. Это было бы весьма любопытно и полезно без всякого сомнения, но, к сожалению, этого не существует, по крайней мере, сколько нам известно. Рассматривая древние трехголосные и четырехголосные сочинения русские, из которых одни дошли до нас в виде переложений на обыкновенные нынешние ноты (например, экземпляры Академии наук, Публичной библиотеки и образцы, перешедшие в эту последнюю от г. Беликова, бывшего инспектора Певческой капеллы) или же в виде крюковых нот, мы скоро убеждаемся, что из их числа четырехголосные — позднейшие, но во всяком случае как те, так и другие не восходят, по написанию своему, за пределы XVII века; что же касается до самого сложения, то принадлежат вкусу и привычкам последних времен допетровской России.
Нерассмотрение подлинных музыкальных памятников, против которого мы считаем необходимым более всего вооружаться, и неразлучное с тем беззаконное употребление собственной, ни на чем не основывающейся фантазии повели наших писателей, между прочим, к тому, что они оставили без внимания один весьма важный факт: а именно тот, что все русские многоголосные сочинения (в 2, 3 и 4 голоса), когда они изображены крюками или знаменами, писаны не иначе, как знаками демественной азбуки (что доказывают, например, все находящиеся в императорской Публичной библиотеке экземпляры), так что это многоголосное русское пение принадлежит к роду пения демественного. Факт в высшей степени важный и богатый выводами, которые из него происходят. Им определяется национальный вкус и в то же время национальное понятие об искусстве и его потребностях. Вспомним также, что по части многоголосного сочинения мы ничего другого не имели, кроме этих демественных распевов, которых примеры не трудно представить, в то время, когда европейское искусство имело и Палестрину, и Орландо Лассо, и всю остальную великолепную фалангу великих музыкальных гениев. При том сравнении, которое неминуемо рождается в голове всякого, серьезно и строго изучающего музыку, небезинтересно взглянуть: что именно наши предки сумели и сочли нужным заимствовать с Запада, уже блиставшего бессмертными произведениями религиозного средневекового духа, и что именно осталось им вовсе неизвестно.
Но если многоголосное русское церковное пение, до нас дошедшее, носит на себе следы и доказательство позднейшего своего происхождения, если оно действительно принадлежит XVI и XVII векам, если оно однохарактерно и однородно с тем позднейшим русским демественным пением, которого примеры для нас сохранились, если — одним словом — это многоголосное пение происхождения русского, а не греческого (потому что о многоголосном греческом пении мы не имеем никаких памятников и свидетельств, ни средневековых, ни современных), то что же должно тогда понимать под словами Степенной книги, сказывающей нам, что со времени пришествия трех певцов из Греции в Россию при Ярославе началось у нас «трисоставное сладкогласование»? Конечно, мы могли бы предложить такое толкование, что в XVI столетии, во время написания Степенной книги под руководством митрополита Макария, трехголосное или, точнее, многоголосное пение уже существовало в России, было вообще любимо и что, так как у нас приписывали греческое происхождение всему, что хотя сколько-нибудь имело отношения к обрядам богослужения, то писавшие известие о древнейшей эпохе нашего церковного пения почли приличным и полезным отнести туда же и происхождение любимых современных форм искусства; тем более, что в остальных наших летописях о прибытии певцов при Ярославе сказано вкратце, так что ампфликация о родах пения, принесенных ими, может казаться весьма сомнительной древности и очень походит на произвольное дополнение и объяснение слов летописи писателем XVI века. Но если мы вдадимся в такое объяснение, все-таки останется неразрешенным: по какой причине и для какой цели этому писателю XVI века захотелось употребить выражение «трисоставное пение» и зачем он не выразил своей мысли посредством слов: «пение трехголосное» или «пение троестрочное»? Оба последние названия часто встречаются с XVI века, особенно же в XVII веке, между тем как название «трисоставного» нигде более не попадается, и поэтому мы не можем удовольствоваться вышеприведенным изъяснением, точно так же, как не можем удовольствоваться произвольным толкованием митрополита Евгения и прочих наших писателей, буквально повторивших его слова.
Самое удовлетворительное, по нашему мнению, разъяснение этой загадки представляют певческие и вообще музыкальные учебники Западной Европы того самого времени, к которому относится сочинение и написание Степенной книги. Уже в конце XV века было в ходу в Западной Европе немало таких учебников; в течение же XVI века изумительное развитие церковного пения, принявшее вдруг повсюду громадные размеры, условило появление музыкальных учебников в таком огромном количестве, которому мы не находим примеров ни в одном из предыдущих столетий. Форма этих учебников была самая схоластическая, и они были загромождены бесчисленным множеством любимых и, можно сказать, модных в то время, более или менее педантских определений, систем, подразделений и т. п. В числе их одно из главнейших мест занимало определение: «что такое есть музыка» и «как она разделяется»? Ответы на эти вопросы (помещаемые обыкновенно в начале учебника) бывали более или менее различны, сложны и многообъемисты, смотря по вкусу и схоластическим наклонностям автора. Чтоб дать понятие о множестве схем, считавшихся в то время необходимою принадлежностью музыкальной теории и музыкального учения, мы приведем здесь те подразделения музыки, которые излагает известный теоретик Кохлей (Johannes Cochlaeus) в своем сочинении: Tetrachordum musices, изданном в Нюрнберге, in — 4°, в 1511 году (второе издание 1516 г.). Этот автор предлагает три главных способа разделения музыки. По первому, музыка бывает mundana, humana, instrumentalis; по второму, она бывает: naturalis и artificialis; по третьему — harmonica и praetica. Каждое из этих трех главных отделов имеет еще и множество других, низших подразделений. Вот они, представленные нами для удобства и краткости в виде таблиц: