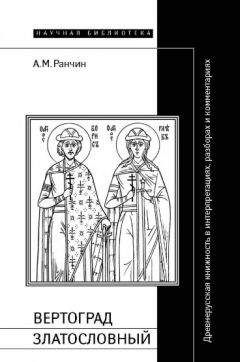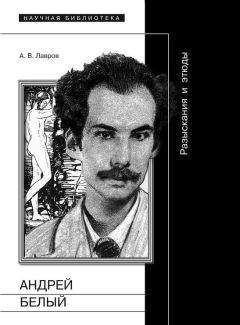Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды
Бабочка несет на своих крыльях не только отпечаток другой реальности, но и самого Создателя – в его знаке-символе – рыбе.
Видение мира и бабочки в ладони поэта поразительно близко к строению барочных иносказаний – эмблем. Например, к виршам русского стихотворца XVII века Симеона Полоцкого, которому присуща «тенденция <…> рассматривать на одной плоскости возможное и невозможное»; для него «вещь сама по себе – ничто. Вещь – только форма, в которой человек созерцает истину, только “знак”, “гиероглифик” истины.
Этот “гиероглифик” можно и должно прочесть. Вещи могут и должны заговорить, и Симеон Полоцкий, чтобы заставить их говорить, систематически, от стиха к стиху, переводил их с языка конкретных образов на язык понятий и логических абстракций, т. е. систематически, без сожаления, разрушал им же созданный мир, вещь за вещью:
Хамелеонту вражда естеством всадися
Къ животнымъ, их же жало яда исполнися.
Видя убо онъ змия, на древо исхождаетъ
и из устъ нить на него нѣкую пущаетъ;
Въ ея же концѣ капля, что бисеръ, сияетъ,
юже онъ ногою на змия управляетъ
Та повнегда змиевѣй главѣ прикоснется,
абие ядоносный умерщвлен прострется.
Подобно дѣйство имать молитва святая,
На змия ветха из устъ нашихъ пущенная;
Въ ней же имя “Иисусъ”, якъ бисеръ, сияетъ,
демона лукаваго в силѣ умерщвляет.
<…>
Стихотворение это <…> – типичный пример его, Симеона, поэтического мышления, его отношения к им же созданному миру вещей. От “гиероглифика”, от образа к “логической” интерпретации этого образа – таково нормальное для Симеона движение его поэтической темы»[397].
Подобным образом английский современник Симеона Генри Воэн превращал водопад в струящуюся эмблему, именуя его поток «притчеобразным» (стихотворение «Водопад»), а Эндрю Марвелл обнаруживал в капле росы знак небесной сферы и намек на душу человеческую:
…Совершенство мест иных
Росинка нам являет,
Она кругла – хранит она
Подобье сферы той, где рождена.
<…>
Душа ведь тоже – капля, луч,
Ее излил бессмертья чистый ключ,
И, как росинка на цветке, всегда
Мир горний в памяти держа,
Она <…>
Смыкает мысли в некий круг, неся
В сей малой сфере – сами небеса
Разительное сходство «Бабочки» с поэзией барокко, впрочем, сочетается с не менее сильным контрастом. Барочные стихотворцы превращали живые существа в бездыханные эмблемы посредством их препарирования и «насаживания» на острия метафор. Бродский, делая мертвую бабочку объектом философской медитации, как будто бы дарует ей вторую жизнь. В пальцах поэта «бьется речь / вполне немая, / не пыль с цветка снимая, / но тяжесть с плеч». Немая – записанная, но не произнесенная речь уподобляется беззвучию бабочки, и живой бабочкой слово трепещет в пальцах. Воскрешая мертвую эфемериду, поэт – вопреки, казалось бы, непреодолимой пропасти между ним и Творцом, тоже становится создателем новой жизни – в слове, в метафоре. «Человек как сознательный носитель языка обязан бороться с временем, которое создает бессмыслицу и небытие. Язык – его единственная надежда»[399]. Как утверждает Валентина Полухина, «Бродский видит в человеческом творчестве средство облегчения бремени существования»[400]. Согласимся с этим суждением – с одним уточнением: не просто человек, а поэт. И именование Бога искусным мастером («ювелиром»), и сближение Творца с художником – композитором, поэтом – восходят к эстетике барокко.
Подобно средневековым сочинениям о животных – латинским бестиариям, греческому и древнерусскому «Физиологу», «Бабочка» доказывает бытие Творца через совершенство и невообразимую красоту его творения. С одним, но огромным отличием: легкокрылое создание свидетельствует не о благе мира, а о шутке Ювелира:
Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца!..
Божий мир, утверждает автор «Бабочки», бесцелен. Или – не человек является целью и венцом творения:
Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель – не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы (II; 298).
Как же это непохоже ни на бестиарии, ни на поэзию английских метафизиков. Процитирую лишь одного из них: «Мир из конца в конец / Нам служит, покорясь»; «Суть мира в нас отражена <…> Всех человек затмил / Величьем, получил на все права <…> Да, человек есть малый мир <…> Лишь в нас – причина и конец, / Нам всюду приготовлен щедрый стол / И радостей ларец»; «Все вещи нам даны» (Джордж Герберт, «Человек»)[401].
Полтораста лет спустя об этом же с незаемным восторгом скажет Державин в духовной оде «Бог», в собственном «я», а не в существовании ничтожных насекомых находя доказательства бытия Божия и благости Зиждителя:
Я есмь – конечно, есть и Ты!
Ты есть! – природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих;
Черта начальна Божества;
<…>
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог[402].
А для автора «Бабочки» само бытие Творца, в начале стихотворения признаваемое, в финале становится сомнительным:
Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной (II; 298).
Мертвая бабочка, парадоксальным образом символизировавшая манящую и притягательную жизнь и сверхъестественное искусство Божественного Ювелира, превращается в знак небытия, его материализацию, не постижимую умом. (Весьма многозначительно, что поэт отсекает от образа бабочки смыслы, восходящие еще к античности и связанные с вечной жизнью, с посмертным существованием души.) Конечно, «Ничто» – одно из именований Господа в так называемом апофатическом, или отрицательном христианском богословии: согласно ему, Бог превыше всех определений и потому «Ничто» – наиболее уместное, хотя и «неподобное» для Него обозначение. Но, боюсь, для такого узкого толкования нет оснований: «Ничто» может напоминать и о буддийской Нирване, и о самых разных философских учениях о небытии – в том числе и о тех, где оно лишено каких бы то ни было ценности и смысла.
Спустя тринадцать лет после «Бабочки», в 1985 году, ее автор вновь обратился к миру насекомых. Вместе с «Бабочкой» «Муха» образует причудливую стихотворную пару – двойчатку. (Парные тексты нередки у Бродского.) Два текста – как два причудливых и асимметричных крыла – бархатное, узорчатое и прозрачно-бесцветное, слюдяное – одного существа. Оба текста – обращения к насекомым, к мертвой бабочке и к обреченной на смерть осенней мухе. Оба – философические медитации на темы жизни и смерти. В «Мухе» графика тоже изобразительна: контуры составленных из строф фрагментов (названных Михаилом Лотманом «гиперстрофами»[403]) подобны очертаниям этого насекомого. (При этом строфы «Бабочки» и «гиперстрофы» «Мухи» состоят из равного числа строк – двенадцати.) Изобразительными становятся и постоянные межстиховые и межстрофические переносы, несовпадения рамок строки и синтаксических границ: «Так материализуется упорство насекомого, которое (подобно преодолевающему границы строки, строфы речевому потоку) сопротивляется метафизической (смерть) границе»[404]. Бабочка – «мысль». Но в русской поэзии задолго до Бродского муха тоже была уподоблена мысли, причем мысли о смерти: «Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою <…> Ах, кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!».[405] Это неожиданное сопоставление повторил Иннокентий Анненский в стихотворении «“Мухи, как мысли”», посвященном памяти Апухтина.
Два текста, «Бабочка» и «Муха», тем не менее схожи не больше, чем драгоценная эфемерида и ее неказистая, но назойливая товарка. Прежде всего, в «Бабочке» 168 строк с короткими двух– и трехстопными ямбическими строками, с чередующимися мужскими и женскими рифмами. «Муха» ощутимо длиннее – в ней 252 стиха, причем возросла и протяженность строк: часть из них – четырех– и пятистопные. И все – с однообразными, монотонными рифмами – только женскими. Восприятие тонет в почти бесконечном длинном тексте, путается в межстиховых переносах, в тенетах извивистого, нарочито «бродского» синтаксиса. Как муха в паутине. Ощущение уныния, тоски, забарматывающейся, «жужжащей» речи.