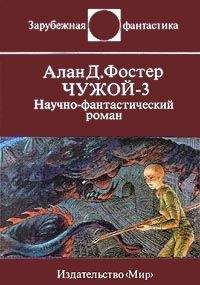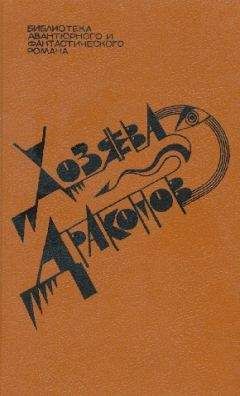Анатолий Бритиков - Русский советский научно-фантастический роман
Лагин создает коллизии трагические, облитые щедринским и свифтовским сарказмом. За бортом Земли оказывается целая система, и на Атавии Проксиме творятся дела пострашнее наивных политических страстей прошлого века. Сравнительно небольшое притяжение атавского астероида не в силах удержать убегающую атмосферу. Чтобы отвлечь людей от вопроса, по чьей вине им предстоит задохнуться, правители принуждают единственного своего соседа на космическом материке, дружественную Полигонию, заключить пакт о… «взаимной войне». Война, говорят они, — самая большая услуга, которую они могут оказать друг другу в сложившихся условиях.
Фантастические обстоятельства обставлены правдоподобными деталями. В правительстве не поверили, что Атавия взлетела в космос, и послали корабли. И вот с одного корабля наблюдают, как второй неожиданно «тонет» — на глазах проваливается за горизонт: так круто закруглился «прилипший» к исподу астероида океан. Подобный эффект описан в «Гекторе Сервадаке».
Несмотря на научную мотивированность некоторых эпизодов, фабула «Атавии Проксимы» основана все же на допущениях, заведомо невозможных. С самого начала ясно, что взрыв, способный вырвать целый материк, не оставил бы на Атавии ничего живого. Критика сожалела, что отсутствуют подробности, объяснившие бы столь «мягкий запуск». Но таких объяснений просто не существует в природе. Никакими оговорками нельзя было бы всерьез уверить читателя, что население целого материка не почувствовало, как взвилось в космос. И Лагин с первых же строк шутливо предупреждал, что отказывается сколько-нибудь вразумительно объяснить приведшие к невероятным обстоятельствам физические явления.
Верн, наоборот, обставил полет и «мягкую посадку» Галлии множеством объяснений. Но чем больше он обосновывал, тем менее правдоподобным выглядело необычайное путешествие с научной точки зрения. Во времена Верна многое в космических явлениях не было известно широкой публике и фантаст мог рассчитывать на условное правдоподобие. Для современного же читателя подробности нередко усугубляют неправдоподобие. Фантасты поэтому «для ясности» стали опускать детали и даже мотивировку в целом. Строгое объяснение и не необходимо, когда научный элемент играет служебную роль, т. е. используется как отправная точка для социальных аллегорий и психологических ситуаций. В романе «Робинзоны космоса» Ф. Карсак, подобно Лагину, уклоняется от пояснений, каким удивительным образом часть земной коры с людьми, деревьями, заводами неожиданно очутилась на чужой планете. Его целью было рассказать об усилиях людей в освоении природы и преодолении на новой родине старых противоречий капиталистической системы.
В письме к автору этой книги Лагин подчеркнул, что не считает себя научным фантастом и согласен с Н. Тихоновым, назвавшим его «мастером фантастической и философской прозы». (Писатель сообщил также, что гриф «научная фантастика» проставлен был издательством «Молодая гвардия» на первом и пока единственном издании «Атавии Проксимы» против его воли). Лагин, тем не менее, в своих чисто фантастических посылках учитывает современный уровень знания. Жюль Верн заботился объяснить разреженность атмосферы Галлии малой силой притяжения. Лагин идет дальше: небольшое тело Атавии Проксимы со временем вообще теряет свое газовое покрывало.
На этом построены важные разоблачительные коллизии. Однако в целях заострения сюжета писатель прибегает к незаметному нарушению законов природы. Атавские фашисты затевают вооруженное вторжение обратно на Землю. Прогрессивные силы противопоставляют этой авантюре мирный план: раскрутить планетку гигантскими реактивными двигателями, чтобы увеличить силу тяготения. Это не помогло бы: тяготение зависит не от вращения, а от массы планеты. Но, между прочим, сообщил нам писатель, до него не дошли критические замечания на этот счет. Читатели проглядели эту частность, а если и заметили, — она ведь вполне в духе условной научной фантастики романа.
"В моем романе, — продолжает Лагин в упомянутом письме, — отрыв (Атавии от Земли, — А. Б.) — это фантастически развитая земная разрушительная сила, которая в руках поджигателей третьей мировой войны грозит превратить нашу планету в мертвую, безжизненную". Автор прав, полагая, что в романе мало что пришлось бы изменить, «если бы вместо отрыва от Земли найти другую причину полной изоляции на длительный срок Атавии от остального человечества. Ну, хотя бы в результате того, что провокационный атомный залп создал вокруг Атавии многолетнюю и непроходимую стену радиации». Но зато с точки зрения художественной выразительности наиболее удачно получилось как раз выстреливание Атавии в космос. Лагин обыгрывает социально-политический парадокс, имеющий в физике характер непреложного закона: действие равно противодействию. Желая наказать «этих русских», атавские милитаристы жестоко проучили самих себя.
Роман, конечно, не исчерпывается этой фабульной метафорой. В «Атавии Проксиме» прочерчены многие линии и детали, реалистически обрисовывающие обстановку, в которой возможно ядерно-космическое безумие. Например, боевыми действиями полигонских войск руководит атавский, т. е. вражеский генеральный штаб (чтобы, чего доброго, не оказали серьезного сопротивления!). Сбежавший из психиатрической лечебницы Ассарданапал Додж выдает себя за сенатора, а толпа не замечает в его бреднях чего-нибудь такого, что отличало бы его от нормальных «бешеных». Не желая стоять в одной очереди с негром, зоологически убежденный расист демонстративно отказывается от противочумной прививки и умирает.
Вместе с тем Лагин не перекрашивает буржуазную демократию в фашизм. Подобные прямолинейности нередко портят неплохо задуманную сатиру. Писатель в самой буржуазной демократии находит фашистские начала и запечатлевает их, так сказать, в местном колорите, со всей атрибуцией демократической демагогии, которую так кичливо выставляют напоказ, скажем, пропагандисты «американского образа жизни».
Лагин почти не делает собственных научных допущений, но зато в совершенстве владеет искусством извлекать всю силу гротеска из ситуаций, таящихся в обоюдоострости современной науки и техники. Открытие, несущее жизнь, сеет смерть в руках корыстолюбцев, авантюристов, трусов, откровенных или замаскированных фашистов. Сюжеты Лагина остро логичны в своей парадоксальности. В стране Аржантейе («Патент АВ», 1947), за которой прозрачно угадывается Америка (хотя на самом деле Аржантёй — парижский пригород), доктор Попф создает препарат, стимулирующий рост организмов (идея, давно лелеемая фантастами и находящая подтверждение в успехах биологии). Скот, фантастически быстро растущий до гигантских размеров, — это ли не мечта людей! Но те, кому это выгодно, похищают препарат для того, чтобы вырастить крепких солдат с младенческими мозгами. Солдаты идут и распевают:
Дяденьку мы слушались,
Хорошо накушались.
Если бы не слушались,
Мы бы не накушались.
Проблема говядины — и проблема пушечного мяса… Памфлет создает прежде всего эта парадоксальная метафорическая реализация фантастической идеи (вспомним у Беляева в «Прыжке в ничто» бегство миллиардеров от революционного «потопа» в ракетном «ковчеге»).
В повести «Белокурая бестия» (1963) Лагин столь же удачно контаминировал рассказы о детях, выросших среди зверей, с волчьей идеологией неофашизма. Малолетний сын немецкого барона — военного преступника, воспитанный волчицей, очутившись в руках педагогов-гуманистов, постепенно приобретает черты человека. Возвращенный же в свою семью, делается лидером движения «федеральных волчат». Звериная психология неофашистов вытравляет в нем даже ту «человечность», которую он унаследовал в волчьем логове. Одно из ритуальных состязаний «федеральных волчат» — на четвереньках догнать и сожрать живьем цыпленка. Распаленный кровью «волчонок» заканчивает реваншистские лозунги звериным воем в микрофон…
Как и в «Атавии Проксиме», писатель добивается реалистичности своих гротесков-парадоксов тщательно обоснованными деталями. Рассказ об очеловечивании мальчика-волка наполнен такими психологически достоверными подробностями, что обратное превращение в «зверя», уже идеологическое, воспринимается в том же реалистическом ключе, несмотря на вплетающиеся публицистические интонации.
У Александра Беляева есть рассказ на близкую тему — «Белый дикарь» (1926). Мягкая беляевская манера контрастно оттеняет трагическую историю смышленого здоровяка, росшего без людей. После недолгой «цивилизации» он предпочел капиталистическому городу свое дикое одиночество. Вероятно, для такой традиционной антитезы: цивилизация — природа гротеск не требовался. У Лагина гротеск естественно вырастает из более острого угла зрения: человек и зверь — и люди-звери. Не следует забывать, что в художественную манеру Лагина как бы прорывается напряженность противоречий в современном мире: они уже сами по себе объективно гротескны.