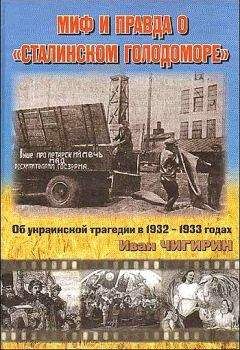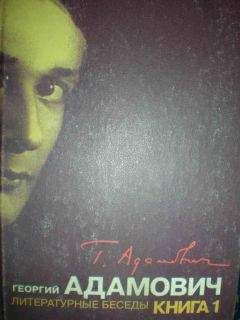Георгий Адамович - Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)
Получит ли «Энергия» то значение и распространение, которое имел «Цемент»? Едва ли. По условиям и особенностям времени в «Энергии» нет уже той порывистости, того волнения и кипения, которые были в «Цементе» и действовали заразительно: это — во-первых. Во-вторых, советская литература сделала все-таки большие формальные успехи, критика стала требовательнее, и теперь Гладкову сойти за «мастера» трудновато… «Цемент» был в литературном отношении гораздо ниже «Энергии», в которой за скверным стилем есть все-таки жизненная сложность и правдивость, но тогда с революционной словесности многого не спрашивалось. Был бы энтузиазм, были бы масштабы и темпы, все прочее — буржуазные прихоти. Нынче московскому критику ничем не угодишь. Он, конечно, по-прежнему жаждет темпов, но тут же он рассуждает о беллетристических приемах Джойса, или даже Жироду (увлечение этим изысканно-пустоватым писателем в СССР родственно, мне кажется, увлечению романами Анри де Ренье в дореволюционной России), а на Гладкова посматривают со снисходительным пренебрежением.
«Энергия» не создаст отчетливого морального и трудового идеала наподобие «Цемента». Она для этого слишком реалистична, слишком тяжела. Изредка только в некоторых образах, как, например, в образе юной коммунистки, инженера Фени, Гладков решается по-прежнему дать черты безоговорочно-героические, абсолютно-положительные. Большей же частью он изображает действительность такой, какова она есть. Роман кропотлив, фотографически мелочен и точен. Среди так называемой «производственной» беллетристики он выгодно выделяется несомненной вдумчивостью автора и его способностью видеть, понимать, обрисовывать людей, их взаимные отношения. Нельзя отрицать вдумчивости и у Шагинян, например, автора «Гидроцентрали»: но при значительно более высоком, чем у Гладкова, уровне словесной культуры, ее роман бездарен и мертвенен. У Катаева во «Время, вперед» — таланта хоть отбавляй. Но зато у него все поверхностно, все легковесно и случайно… Гладков — тяжеловоз, писатель по-своему честный (думаю даже — вполне честный) и зоркий. Он умеет сгущать, обобщать впечатления, которые дает окружающее, обладает даром показать «типичное». Оттого-то его роман и интересен, и важен.
Действие происходит на каком-то огромном речном «строительстве», — очевидно, на Днепрострое. Две среды, постоянно соприкасающиеся, но все-таки сохраняющие каждая свою особенность: среда инженеров-интеллигентов и общество партийных «выдвиженцев» из простых рабочих, а то и беспризорников. Героя нет. Несколько человек очерчено с большой тщательностью, но, как в «Войне и мире», ни один из них не играет бесспорно главной роли в ходе повествования. Две сферы авторского внимания: общий труд на строительстве — и рядом частная жизнь каждого из действующих лиц в отдельности. Тема романа — в примирении личного с общим, в их гармоническом, безболезненном сочетании. Эпиграф из Гете поясняет, что хотел показать Гладков:
– Что тут такое?
– Человек творится… («Фауст»).
Советская критика упрекает автора «Энергии» в том, что он уделил «личному», «интимному» в человеческом существовании слишком много забот и тревоги. По ее мнению, все в этой области просто: поменьше бы обращать внимания на личную жизнь глядишь, «перестройка» и произойдет сама собой. Упрек старый. Делается он неизменно каждому писателю, который имеет смелость заявить, что «на фронте человеческой психики» триумфы и достижения революции не столь прочны, как кажется, и что приемы, применимые, например, при ударной кладке бетона, здесь «для ликвидации» этого прорыва не вполне уместны.
Строительство продемонстрировано Гладковым в обычных тонах: интеллигенты малодушничают или даже «вредительствуют», комсомольцы геройствуют… Страницы, где описаны работы, нет охоты читать: во всех «производственных» романах они совершенно одинаковы. У одного — похуже, у другого — получше и поживее, как у Катаева, но суть та же. «Энергия» интересна с закулисной стороны — не показной и парадной, а будничной.
Всем людям в ней — не по себе. Гладков менее тенденциозен, чем это представляется на первый взгляд: преднамеренные мысли свести все к мажорному финалу у него нет. Он этого финала ищет, но не считает уже данным. Мирон, коммунист и носитель всех добродетелей, к концу романа проговаривается:
— Обо всем подумали, а свою жизнь наладить не сумели.
У Мирона ушел в беспризорники сын, у него разрыв с женой. Правда, ложась спать, он беспокоится о том, что «массовая работа на строительстве мало развернута», а просыпается с тревожной мыслью, что «сезонник не вовлечен в общественно-политическую деятельность». Но где-то глубоко, редко-редко вырываясь наружу, его точит сознание, что реальное его существование находится в страшном противоречии с официальными прописями, обещающими ему удовлетворение и благополучие. Схоластические афоризмы о разнице между «личностью» и «личным» делу не помогают.
Инженер Балеев, начальник всего строительства, властный, резкий и самолюбивый человек, для «душевной» беседы ходит к полуюродивой девочке, капризной и нервной: с товарищами по работе ему говорить не о чем. Инженер Кряжич, с самозабвением трудясь «во имя социализма», не перестает издеваться над этим будущим социализмом и жаловаться на свое положение кандидата в Соловки. Почтенная, заслуженная большевичка, носящая изящную партийную кличку Бочка, внезапно изнемогает от одиночества и оказывается самой обыкновенной женщиной, которой хочется «немножко ласки». И так далее, и так далее…
«Человек творится». В романе Гладкова сквозит сомнение, которое должно, — не может этого не быть, — многих и многих смущать в современной России: стоит ли игра свеч? Ну, допустим, строительство закончится полным торжеством, план будет выполнен, все пятилетки удадутся, но если человек не станет от этого ни лучше, ни счастливее, — стоило ли затевать все дело, а главное — приносить такие жертвы? Может быть, прав старик — герой какой-то советской драмы, если не ошибаюсь, Н. Никитина, — который в отчаянии молится Богу:
— Останови, покарай Ты этих чертей! Мы ничего не хотим строить, мы ничего не хотим изменять Мы хотим, чтобы тихо текли Твои реки, мирно шелестели Твои синие леса… Тепло человеку под Твоим солнышком, Господи…
Сомнение насчет внутренней неоправданности «строительства» в целом у Гладкова сквозит. Но надо сказать правду: весь его пафос направлен на преодоление этого сомнения, на сознательное, зрячее, уверенное торжество над ним. В этом-то именно и характерность его «Энергии», какая-то ее тематическая центральность в новейшей российской беллетристике, — как тематически централен был в свое время и «Цемент»: книга эта — радостно богоборческая или, если угодно, природо-борческая… Человек должен быть «сотворен» (в смысле, вложенном в гетевскую цитату). Он будет сотворен в процессе борьбы за первое место во вселенной, когда будет создано, наконец, объединенное одной волей человечество.
Что говорить! Многое можно возразить против такого всемирно-исторического проекта. Защищать или обосновывать его я не собираюсь. Думаю только, что это проект, близкий и родственный всем советским мечтам, поскольку они уходят за пределы непосредственных повседневных перспектив, — и что Гладков верно отразил эти безотчетные порывы и стремления.
Чисто литературное замечание: в книге множество типов и персонажей, четко обрисованных и, с бытовой точки зрения, крайне любопытных. Картина заседания инженеров — документ, пожалуй, перворазрядный.
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ:
Диалоги.–
Догадки Вал. Катаева. –
Советский кумир: Дос-Пассос. —
Перечитывая Сологуба
В книжной лавке. Входит покупатель, узнает, нет ли «новинок».
– Пожалуйста, посмотрите на этой полке… Вот Сирин, вот новый роман Фельзена, Берберова, Газданов, все наши молодые авторы вообще.
Покупатель молча раскрывает книжку за книжкой, перелистывает, рассматривает и ставит на место.
– Нет, уж лучше что-нибудь из старых… Чтобы с разговорами!
Улыбку удержать было трудно. Но сцена сама по себе крайне характерная. Если бы, действительно, постараться найти внешний, формальный признак, который резче всего отличает писания наших старших беллетристов от произведений молодых авторов, то придется повторить то же самое: те пишут с разговорами, эти без разговоров или, во всяком случае, с небольшой дозой их. Убыль диалогов наблюдается всюду. У Сирина они еще остались, но тенденция во всей новой прозе одинакова: разговоры сокращаются, сгущаются, писателя не прельщает больше фонографическая передача живой речи.
Понятно, что это не всем по вкусу. Роман, испещренный диалогами, читать легче уже хотя бы потому, что страница с пустыми белыми местами меньше утомляет глаз. Такую страницу быстрее можно «пробежать». Кроме того, разговорная фраза большею частью ослаблена и разжижена стилистически: построй ее романист иначе, как делает Андрей Белый иногда, – фальшь и неправдоподобие становятся слишком очевидны. Раскрывая роман с диалогами, читатель знает, что словесных препятствий брать ему не придется… Все это так.