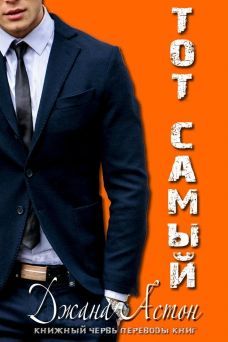Григорий Померанц - ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ
Праведность сказалась в том, чтобы дождаться ответа; не пытаться по-эвклидовски отвечать на эвклидовские вопросы. Которые сами по себе совершенно законны – незаконны только логические ответы там, где нужно прямое созерцание, виденье, слышанье. Эвклидовский разум прав, когда ставит вопросы, раскрывает перед духом бездну целого, прикрытую догмой. И неправ, когда не умеет замолчать перед бездной и ждать созерцания. Ересь – от нетерпения разума, бросившегося за свои пределы. Еретик – Раскольников. А Смешной человек – не еретик: он увидел. Увидел – и вдруг раскрылась суть религиозного чувства: связь с духовным целым вселенной – без всей буквы религии (и всех споров о правильных и неправильных словах).
На прекрасной планете люди живут, как Адам и Ева в раю, непосредственно чувствуя Бога. Что это, утопия? Скорее духовная реальность. Отдельные черты планеты Смешного человека взяты из мечтаний Фурье; но целое, созданное Достоевским, сравнимо с заключительными страницами Апокалипсиса. Вопрос поставил эвклидовский ум, но ответило сердце, напитавшееся созерцанием золотого предзакатного света, и ответило как власть имеющий.
Христа на планете нет; но Бог есть любовь, и, следуя догме о равночестности ипостасей, можно заменить слово «Христос» словом «любовь»: «Если бы как-нибудь оказалось, что любовь вне истины и истина вне любви, то я предпочел бы остаться с любовью вне истины...», вне любых идей – не только философских, но и богословских. Которых на планете нет и не может быть: там ведь ни науки, ни храмов.
Это крайняя точка духовной смелости Достоевского, которой он достигает, когда в душе его совершенный свет, и которую теряет, когда свет меркнет и воцаряется мрак, озаряемый неверными и слабыми вспышками. При свете таких вспышек остается только вцепиться во что-то осязаемое и изо всех сил держаться за него. Обе эти точки (дерзания и страха) одновременно схвачены в «Заметке о петербургском баден-баденстве»:
«Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России и в ее православии (под которым я подразумеваю идею, не изменяя, однако же, ему вовсе) заключаются залоги того, что Россия может сказать слово живой жизни и в грядущем человечестве...»[72].
Что же такое православие? «...я подразумеваю идею, не изменяя, однако же, ему вовсе». То есть отчасти изменяя. До какой степени? Настолько, насколько Зосима отходит от оптинских старцев? Или еще дальше? До мечтаний Версилова? До планеты Смешного человека? Границы не указаны, и я думаю, что их нет. Ни один ответ, вышедший из-под пера Достоевского, не может быть отброшен: ответы «благонамеренно-честного сознания»[73] в «Дневнике», ответы героев, придуманных для выражения благонамеренно-честной веры, – и ответы, неожиданно рождавшиеся в творческом воображении, отождествлявшем себя с тем или иным характером. Нельзя отбрасывать никого, и никого нельзя снижать. Экранизация «Подростка» фальшивит, когда лишает Версилова духовного обаяния, а старец Макар изображен таким иконописным, таким полным подобием Иоанна Крестителя, что вываливается из антикрасноречия Достоевского в лакированные образы Ильи Глазунова.
Хочется процитировать текст, который сценарист и режиссер вымарали из разговора Версилова со своим сыном: «Я представляю себе, мой милый, – начал он с задумчивою улыбкой, – что бой уже кончился и борьба улеглась.
После проклятьев, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это – всё, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на Земле – ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их», – и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...
Милый мой, – прервал он вдруг с улыбкой, – все это – фантазия, даже самая невероятная; но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю: вера моя невелика, я – деист, философский деист, как вся наша тысяча, так я полагаю, но... но замечательно, что я всегда кончал картину мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил:
«Как могли вы забыть Его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения...»
Бросается в глаза, что из идеи православия здесь совершенно выпала церковь. Остались люди без церкви и Христос вне церкви.
В монологе Версилова временами чувствуется персонаж, на которого Достоевский смотрит со стороны: барин, лишний человек и т. п. Но из-под героя высовывается сам Достоевский, его собственное созерцание картины Клода Лоррена, его собственные порывы воображения. Без Христа Версилов не мог обойтись (и Достоевский не мог); но без исторической церкви оба они, в какой-то миг, вполне обходились. Мышкин, говоря с Рогожиным о вере, ни разу не упоминает церковь, ни разу не заходит, в трудную минуту, помолиться в храме. Хромоножка больше прислушивается к еретице, сосланной на покаяние, и к закатному лучу.
Во «Сне смешного человека» сделан еще один шаг. Я не останавливаюсь на том, как много в этом сне перекликается с мечтанием Версилова и до какой степени это общее у двух совершенно разных героев сходится в авторе, в самом Достоевском, – так что различия, пожалуй, можно свести к разным состояниям духа одного лица. Хочется еще раз подчеркнуть другое: на планете Смешного человека не было ни Иудеи, ни Рима и не был распят Иисус.
Там нечего искупать – по крайней мере до знакомства со Смешным человеком:
«...они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. <...> У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества[74]. <...>
У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего...» (т. 25, с. 113–114).