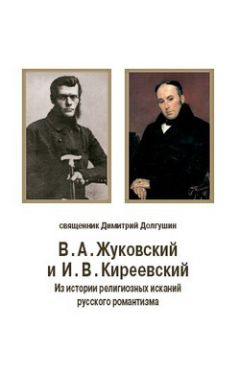Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
4. Рок и свобода воли
С евангельской этикой и церковным благочестием Рок не имел ничего общего. Молиться ему было бессмысленно, предугадывать или хоть как-то упреждать его прихоти удавалось лишь с помощью колдовства и заклинаний[399]; но от наиболее свирепых или эпохальных извержений этой чудовищной силы уйти было невозможно: «И от судеб защиты нет». Здесь не спасала никакая осторожность и предусмотрительность. Классический пример тщетности подобных усилий с точки зрения фаталистического сознания дают как сочинения Пушкина – например, «Песнь о вещем Олеге», – так и сама его биография, реализовавшая предсказание Кирхгоф.
Рок нельзя было и задобрить – от него не спасало даже самое благонравное поведение. И в своих капризно-бытовых зигзагах, и в хаотически-стихийном напоре, и в неукоснительно-жестких предначертаниях он, в отличие от Промысла, лишал человека свободы воли – о чем резонно напоминал романтикам Стурдза, – оставляя место разве что для заведомо ограниченного магического маневра. (Имелись, правда, также многочисленные романтические герои прометеевского и байронически-демонического типа, не то сражавшиеся – пусть безуспешно – с Роком, не то бывшие его грозным орудием; о них и о «роковых женщинах» речь пойдет ниже.)
Соотношение Промысла, как и детерминизма, со свободой воли тревожило русских романтиков – в наибольшей степени Лермонтова[400], причем еще за много лет до «Героя нашего времени». Так, Юрий, герой «Menschen und Leidenschaften», который собрался покончить с собой, вопрошает: «Зачем хотел Он моего рожденья, зная про мою гибель?.. где Его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить?» «Фаталист» как бы резюмирует это недоумение[401]: «И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?» Ср. рассуждения Полежаева в (неподцензурном, разумеется) послании А.П. Лозовскому: «Возможно ль то ему судить, Что вздумал сам он сотворить? Свое творенье осудя, Он опровергнет сам себя! <…> Одно из двух: иль он желал, Чтобы невинно я страдал, Или слепой, свирепый рок В пучину бед меня завлек? Когда он видел, то хотел, Когда хотел, то повелел, Все от него и чрез него, А заключенье из того: Когда я волен – он тиран, Когда я кукла – он болван». Один из персонажей повести Ган «Суд Божий» (1840) озадаченно думает о горестной жизни своего друга: «Да, перст Божий руководил его поступками, вера его в пути тайного Промысла оправдалась, – но зачем же он, невинный, сделался первою и самою жалкою жертвою этого Промысла?»[402]
Подавляющее большинство все же обходило эту неразрешимую проблему молчанием, а единичные эрудиты туманно ссылались на христианскую диалектику свободы и необходимости. Погодин, например, апеллировал одновременно и к католической традиции, несколько модернизированной Баланшем, и к философии тождества: «Но как согласить теперь существование высших законов необходимости, судеб Божиих, предопределения с человеческою свободою? Нет, мы не слепые орудия Высшей силы, мы действуем, как хотим, и свободная воля есть условие человеческого бытия, наше отличительное свойство»; «Соединение или, лучше, тожество законов необходимости с законом свободы – такое же таинство, как соединение мысли со словом, как соединение души с телом»[403].
«Таинство» тем не менее оставалось таинством. Поздний Жуковский, заново обратившийся к пиетистскому наследию, посвятил Промыслу одну из своих философских заметок, в которой свободе вообще не нашлось места. Нам полагается лишь безропотно следовать воле Божьей, пусть непостижимой, зато всегда направленной к нашему вечному благу. Так дети принимают наказания от отца – плача, но не обижаясь, ибо знают, что он печется об их же пользе. «Мы должны не по событиям судить Промысл Божий, а события по Промыслу Божию. В одних он является нам во всей своей благости, в других мы не видим своими слепыми глазами этой благости. В обоих случаях, как и во всем, мы должны смиряться». Но чем отличается тогда Провидение от такого же властного языческого Рока? «Древний фатум, – возражает Жуковский, – есть ужасное чудовище; необходимость ему покоряться и его неизбежимость были безотрадное бедствие». Бесценное же преимущество христианина – в том, что его «испытатель есть живой Бог; и сколь бы ни были непонятны для нас и тяжки Его испытания – для их изъяснения Он имеет для нас вечность»[404].
В ожидании этой вечности сокрушенной и растерянной жертве приходилось уповать лишь на милосердие «испытателя». Очень часто, однако, как то было и в стихах самого Жуковского, ссылка на «испытания» выглядела настолько сомнительной, что романтики ее избегали, а вину за земные горести продолжали возлагать на «чудовище» фатума, сопутствовавшее Провидению.
5. Двоебожие и превосходство Рока над Провидением в земной жизни
При другом рассмотрении злобный Рок представал уже не подручным у Бога, а скорее Его антагонистом. Некоторые авторы даже прилагали специальные усилия к тому, чтобы четко разграничить эти инстанции. Лирический герой А.И. Тургенева молит Всевышнего: «Соделай, чтобы я, погрязший в тьме порока, Возник из глубины житейской суеты И Провидения б не чтил я волей Рока!..»[405] Так в новом, предромантическом и романтическом миросозерцании закреплялась древняя тема религиозного двоевластия, по ряду причин – и прежде всего ввиду своего самоочевидно еретического характера – не получавшая, однако, в России какого-либо доктринального закрепления.
Языческая основа самого фатализма также затрагивалась русскими романтиками, причем не только в аллегорически-игровом ракурсе. К примеру, в своей поэме «Василько», написанной им в Сибири в конце 1820-х гг. и запечатлевшей борьбу многобожия с христианством в Древней Руси, Александр Одоевский (декабрист, двоюродный брат В.Ф. Одоевского) вложил в уста «верховному жрецу» гимн Судьбе. Здесь она изображена олицетворенной «мыслью» главного божества – конечно, по аналогии с библейской Премудростью как первотворением Саваофа. Автор, видимо, уже тогда был стойким и убежденным христианином[406], однако в этом монологе Судьба наделена у него неодолимым могуществом, возвышающим ее над самими богами:
Есть небеса над небесами
Превыше молний и громов;
Есть звездный терем над звездами!
И не единый из богов
Не преступал его порога.
Судьба! – при имени святом
Во прах поникните челом!
Сама Судьба есть мысль Белбога![407]
Хуже того: как дают понять другие романтики, в том числе Лермонтов, с ее ужасающей мощью не совладать на земле и христианскому Провидению. По замечанию Р. Гальцевой, «“Божья воля”, провидение и “высший суд”, к которым время от времени апеллируют герои Л<ермонтова>, не могут устоять “против строгих законов судьбы” (“Желание”), и сам Творец часто подменяется судьбой (стих. “Стансы”, 1830; “Гляжу на будущность с боязнью”), представляя собой скорее переходную фигуру между личным богом монотеизма и безличным разрушит<ельным> фатумом <…>. Судьба господствует и над Демоном, с помощью которого лирический герой дистанцируется от “власти Всевышнего”»[408].
Безраздельно властвуя над всем «житейским» и самой жизнью, Рок пресекает ее по своей воле. Даже такой глубоко верующий христианин, как Жуковский, скорбя о скоропостижной кончине королевы Виртембергской, пеняет на всевластие Судьбы в здешнем мире:
Пришла Судьба, свирепый истребитель,
И вдруг следов твоих уж не нашли;
Прекрасное погибло в здешнем цвете…
Таков удел прекрасного на свете!
<…>
Вотще дерзать в борьбу с необходимым:
Житейского никто не победит;
Гнетомы все единой грозной Силой:
Нам всем сказать о здешнем счастье: было!
Спустя четыре года, в начале 1823-го, пессимистический фатализм Жуковского монументально – хотя и несколько тавтологически («роковой рок») – развивает Языков в одном из своих дебютных сочинений, исполненном одическим слогом и посвященном памяти М.А. Мойер. Со временем автор вознамерился было его напечатать – в НА на 1830 год, – но публикация не состоялась. Стихотворение, так и озаглавленное: «Рок», настолько примечательно, что стоит привести его целиком:
Смотрите: он летит над бедною вселенной.
Во прах, невинные, во прах!
Смотрите, вон кинжал в руке окровавленной
И пламень Тартара в очах!
Увы! сия рука не знает состраданья,
Не знает промаха удар!
Кто он, сей враг людей, сей ангел злодеянья,
Посол неправых неба кар?
Всего прекрасного безжалостный губитель,
Любимый сын владыки тьмы,
Всемощный, роковой – и наш мироправитель!
Он – рок; его добыча – мы.
Злодейству он дает торжественные силы
И гений творческий для бед,
И медленно его по крови до могилы
Проводит в лаврах через свет.
Но ты, минутное Творца изображенье,
Невинность, век твой не цветет:
Полюбишь ты добро, и рок в остервененье
С земли небесное сорвет,
Иль бросит бледную в бунтующее море,
Закроет небо с края в край,
На парусе твоем напишет: горе! горе!
И ты при молниях читай![409]
Религиозный статус фатума окрашен у Языкова теми противоречиями, которые вообще очень характерны для романтизма; однако автор, с присущей ему энергией, разогрел их до того градуса, когда они вступили в открытый конфликт с христианской догматикой. В первой строфе Рок представлен у него порождением преисподней, «ангелом злодеянья» – но одновременно и «послом неправых неба кар», а значит, орудием самого Бога как верховного Судии, которому, соответственно, инкриминируется несправедливость. В дальнейших строках Рок-«губитель», снова приобщенный к царству тьмы, величается «любимым сыном» его владыки – т. е. Сатаны, – но вместе с тем вбирает в свой образ могущество и безграничную власть библейского Вседержителя: он назван «всемощным» и «мироправителем».