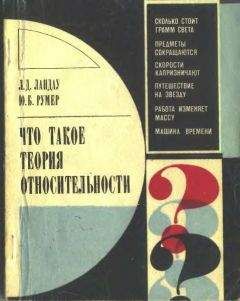Юрий Барбой - К теории театра
Как уже было сказано, законы композиции драматического действия равно применимы к обоим его художественным явлениям — пьесе и спектаклю. В свете такого утверждения вопрос о том, как соотносится композиция спектакля с композицией пьесы, «по которой» ставится спектакль, в таком виде — а он в таком именно виде чаще всего и возникает — следовало бы назвать некорректным. Но если миновать традиционный повод для таких вопросов (чаще всего повод — попытка поверить спектакль пьесой), следует признать, что хотя бы для удобства анализа такое сравнение бывает полезно. А раз так, не станем вовсе обходить этот вопрос и, во-первых, рискнем предположить, что в области композиции отношения между спектаклем и пьесой в принципе такие же или даже те же, что и в жанровой сфере; во-вторых, сошлемся на статью П.П. Громова, посвященную двум «Гамлетам», Н.П.Охлопкова в Москве и ленинградскому Г.М.Козинцева[106], где оба спектакля сравниваются между собой на фоне пьесы Шекспира. В одном из самых сильных и самых важных для нашей темы мест этой работы П.П. Громов с редкой ясностью демонстрирует связь между содержанием спектакля и тем отрезком действия, которое режиссер делает кульминацией (у Охлопкова сцена «мышеловки», у Козинцева «в спальне королевы») — связь в обоих случаях знаменательную и жестко однозначную.
Объект Громова — театр. Но как раз на театральном материале ему удалось особенно убедительно показать, в частности, что законы композиции воистину общие, именно потому, что они описывают строительство не каких-либо иных, а драматических содержаний. И все-таки есть, конечно, проблемы не вообще драматической, но именно и только театральной композиции. Не последней среди них оказывается простая и животрепещущая: как выглядит композиция спектакля, когда среди его действующих сил есть актеры, когда актеры действуют на сцене не только от имени персонажей, но и непосредственно?
Еще раз вспомним много раз описанное начало «Гамлета» на Таганке. Свет в зале. К беленому брандмауэру прислонился человек в джинсах и с гитарой. Не торопясь Высоцкий отделяется от стены и приближается к нам. Поет из «Стихотворений Юрия Живаго»: «Гул затих./ Я вышел на подмостки./ Прислонясь к дверному косяку…». Объективно Ю.Любимов и В.Высоцкий сопоставляют барда подворотен «Володю Высоцкого» и шекспировского принца. Субъективно всем известный актер и автор песен, реальный человек ХХ века с гитарой, на наших глазах решает ту самую проблему, которую с помощью театрального словаря сформулировал Пастернак: приговорен он к этой роли с заведомо смертельным концом или та чаша еще может его миновать. Высоцкий пока не Гамлет, и Гамлетом ему быть одновременно и необходимо и страшно. То, что обычно для актера не предмет рефлексии — играть или не играть свою сценическую роль — для Высоцкого коллизия, в которой он обязан выбирать. Он выбирает «да». Быть может — «попробую». Но во всяком случае он начинает ввязываться в эту игру. То есть в спектакле, до начала завязки пьесы, начинается завязка.
Жаль, что конец того спектакля ни в критике ни каким-либо иным образом не зафиксирован столь же надежно, сколь начало. Середине повезло больше: кинохроника сохранила сцену «Быть или не быть?», сыгранную В. Высоцким как вариации на тему этого монолога — по-разному пластически и интонационно, и по смыслу едва ли не противоположно. Сцена безусловно причастна кульминации. В обеих ее частях, в отличие от начала завязки, Высоцкого «отдельно от Гамлета» уже нет: согласно распорядку действий вопрос, быть ли ему Гамлетом или не быть, решился. Художественное время тоже необратимо, и к исходной ситуации возврата нет. Гамлет ХХ века налицо, сам он это знает и, стало быть, в отличие от Гамлета пьесы, знает свой конец. Сейчас сакраментальный шекспировский вопрос имеет новый смысл. Вот актер и пробует варианты: он решает не «быть или не быть», а — как именно не быть и каким умирать. Тут и прямое продолжение и качественно новая фаза того, что начиналось в начале.
Как только отношения между актером и ролью перестали быть лишь фрагментом системы спектакля, а стали, кроме того, существенным моментом содержания, они должны были найти себе форму, должны были быть построены, вкомпонованы в целое. Так и случилось. Подчеркнем со всею возможной резкостью: даже две упомянутые «точки» этой композиции надежно подтверждают, что мыслить отношения актера и роли не только как системно-структурный, но и как конструктивный фактор, во-первых, можно, а во-вторых, в некоторых случаях обязательно. Одновременное существование актера и роли требует, как и сделал режиссер Любимов, чтобы отношения между Высоцким и Гамлетом в начале были, если угодно, «качательны», а в районе кульминации необратимо изменились Условное перевоплощение актера в роль оказалось понято как полноценная, развивающаяся, то есть имеющая свои обязательные фазы драма.
Практика показывает: несмотря на то, что способность структуры спектакля «обернуться» (вовсе не притвориться!) архитектоникой должна выглядеть и быть естественной, как минимум, для поэтического театра, — такой случай и там редкость. Но сами по себе конструктивные функции системообразующих элементов спектакля никакой редкостью не являются. В этом нет сомнения, когда в самом что ни на есть прозаическом театре меняется свет или декорация: такая смена во всяком художественном случае бывает не просто, а определенно содержательна, ибо занимает законное место в композиции причин и следствий. Столь же самоочевидный случай — использование музыки в драматическом спектакле. Сегодня, конечно, нечасто удается прямо цитировать иронический комментарий Вл. И. Немировича-Данченко к постановкам «Горе от ума»: капельмейстер взмахнул палочкой и Софья с г-ном N. пустилась в танец… Но, во-первых, в течение не одного столетия такое использование музыки было совершенно законной художественной практикой драматического театра, во-вторых же, с интересующей нас точки зрения, оно ничем не отличается от другой, тоже почтенной практики, когда музыка либо аккомпанирует актеру, усиливая эмоциональную насыщенность его игры, либо эту игру откровенно заменяет, то есть сама продолжает то, что происходило в спектакле до ее вступления, и безо всяких швов переходит в следующий временно-пространственный «объем» спектакля. Наконец, никаких сомнений не может вызвать конструктивная роль звуко-шумо-музыкального ряда, когда он вводится контрапунктически, сложно сплетаясь с игрой актеров, светом и пр. В упомянутом спектакле А.В. Эфроса «Месяц в деревне» соотношения между разыгранным актерами сюжетом Тургенева и хрестоматийной темой Моцарта (почти незаметно отредактированной) не только можно, но и должно было, не боясь вульгарности, «переводить» в содержательный план.
Напомним для сравнения о параллельном монтаже в классической «сцене» на Потемкинской лестнице из «Броненосца «Потемкин»» С.Эйзенштейна: солдаты с ружьями — толпа — солдаты — толпа… Толпа меняется, укрупняются ее планы, одновременно укорачивается время; кадры с солдатами неизменны. У Эфроса моцартовский «мотивчик», бессознательно ассоциирующийся с легкостью, ясностью и гармонией, повторялся на протяжении всего спектакля и таким образом в его композиции играл роль своеобразного остинато — статического, повторяющегося элемента. Мы не сопоставляем театр и кино. Мы толкуем о том, что как в случае в Высоцким, Гамлетом и занавесом, в «Месяце в деревне» структурные отношения переведены в композиционный план: строение системы не то что бы откликнулось в строении формы, оно в форме материализовалось.
11. Мизансцена
Рассмотренные нами части архитектоники, как и части композиции вообще, — такие, как, например, акты многоактного спектакля, — наиболее широкие из тех, что есть в театре. Они обозримы, но непосредственно движение художественной мысли по этим вехам проследить невозможно. Рывками или плавно, но оно накапливается постепенно: форма едина и одновременно членима, и должна быть такая последняя в своей конкретности единица высказывания, «ниже» которой никакого художественного, а стало быть, и никакого смысла нет. Этим последним, химически неделимым атомом театрального текста, по всей видимости, может быть только мизансцена. В «последней», полной реальности своей формы спектакль и есть совокупность и система мизансцен. Они, их переходы, их связи между собою и составляют ту материю, из которой мы вычитываем всякое содержание.
Возникновение понятия в близком к современному значении разные авторы датируют по-разному. Нам, однако, достаточно того, что, во-первых, мизансцена как нечто не ритуально-знаковое, а художественно значимое возникла не вместе со спектаклем, а веками поздней, и во-вторых, что это понятие потребовалось тогда, когда спектакль перестал быть целиком синкретическим действом. Еще жестче: когда те фрагменты сценической части спектакля, которые связаны с актерами, потребовалось как-то отделить от других, варьируемых частей системы, и особым образом выделить. Другими словами, когда театр стал актерским, то есть когда актеры со своими ролями и партнерами взяли на себя решающую ответственность за создание смысла и соответственно строительство формы. С сегодняшней точки зрения мизансцена эпохи классицизма и еще более поздних времен (крепче всего зацепившаяся за оперный театр), наверное, тоже выглядит как нечто неиндивидуализированное, но на деле она уже несомненно полна смысла. Напомним лишь о том, как неукоснительно несколько веков соблюдали простейшее, но прямо содержательное правило: важные герои занимают на сцене более видное место, а неважные — невидное, то есть невыгодное для рассматривания.