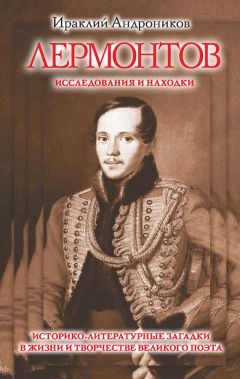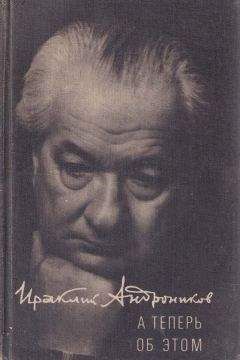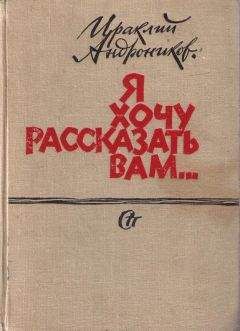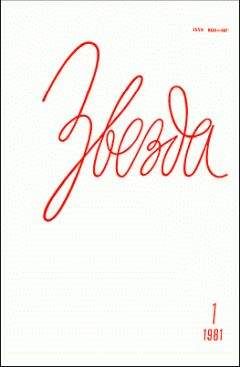Александр Амфитеатров - Женское нестроение
— Слово предоставляется гласному Толстолобову.
— Господа! — я такъ полагаю, что все это бабье безобразіе…
— Гласный Толстолобовъ! выбирайте лучше ваши выраженія. Какое безобразіе?
— A вотъ учительницъ этихъ самыхъ… Ихъ — тово — слѣдоваетъ похерить.
— Почему же?
— A потому, что y меня жена негодяйка.
То есть:
Я за то тебя люблю,
Что въ середу праздникъ.
Коротко, ясно и логично.
Три: я рѣшительно недоумѣваю, откуда журналистка взяла, что въ гонимой средѣ учительницъ изобилуютъ зловредныя симулянтки труда? Надо совсѣмъ отчудиться отъ русской жизни, надо совсѣмъ не знать быта средней русской интеллигенціи — рабочей, безъ рентъ, чтобы рѣшаться на подобныя обобщенія. Я зналъ, если посчитать, не одинъ десятокъ замужнихъ учительницъ, и смѣю утверждать, что и имъ, какъ «свободнымъ американкамъ», которыхъ примѣромъ колетъ журналистка глаза русскимъ женщинамъ. не приходало въ голову «бѣжать въ школу, оставя дѣтей безъ обѣда, или идти на службу, не пересмотрѣвъ, всѣ ли пуговки цѣлы на рубахахъ мужа». Пуговки — пуговками, a школа — школою. Домашнія операціи, предписываемыя журналисткою женщинѣ къ исполненію прежде общественнаго труженичества, такъ несложны, что легко совмѣщаются со всякаго рода службою, и пуговки ничуть не мѣшаютъ ей, какъ она не мѣшаетъ пуговкамъ. Смѣю предположить, что изъ десяти мужей, чьи жены теперь лишатся права преподаванія въ думскихъ школахъ, девять предпочли бы пересматривать пуговки на своихъ рубахахъ собственными своими глазами, — только бы жены ихъ сохранили свои мѣста. Почему? Да потому, что журналистка жестоко и антипатично ошибается, рисуя намъ русскій женскій трудъ забавою съ жиру. A въ особенности въ столицѣ. Трудовыхъ брачныхъ паръ въ Петербургѣ легіонъ; трудится съ утра до ночи мужъ, работаетъ съ утра до ночи жеиа, и только ихъ совмѣстный трудъ въ состояніи окупить ту каторгу, что называется столичною жизнью. И сходятся-то иной разъ не столько для любви, сколько для того, чтсбы «соединить доходы» — слишкомъ мизерные врозь, a вмѣстѣ все-таки похожіе на средства къ жизни. Ну, и околачиваются. Онъ заработаетъ сто, она тридцать, сорокъ, пятьдесятъ — вотъ и всѣ фонды; кое-какъ хватаетъ, но вотъ въ одинъ прекрасный день приходитъ она домой и заявляетъ:
— Душенька, одинъ изъ гласныхъ заявилъ, что y него жена дрянная женщина, и это y нея отъ учительницъ, a потому меня гонятъ съ должности, и отнынѣ мы должны жить не на полтораста, a на сто цѣлковыхъ.
— Господи! какъ же мы обернемся?!
— Ужъ не знаю.
— Что же ты будешь теперь дѣлать?
— A вотъ одна журналистка рекомендуетъ пересматривать пуговки на твоихъ рубахахъ.
— Да у меня всего три рубахи: что же ты, по цѣлымъ днямъ; на нихъ любоваться будешь? Или прикажешь еще три купить — не для носки, a для твоего удовольствія? Такъ, матушка, изъ какихъ источниковъ? Особенно теперь, когда тебя выгнали изъ школы…
— Зато теперь я не буду бѣгать въ школу, оставя дѣтей безъ обѣда.
— Гмъ… кстати: на счетъ стола придется сильно сократиться; нашъ прежній обѣдъ намъ ужъ не по средствамъ… жаль ребятишекъ, но дѣлать нечего.
— Мы наверстаемъ дѣло пищею духовною. Вспомни: вѣдь я уже не буду просиживать цѣлые дни въ школѣ, предоставляя своихъ дочерей надзору развратныхъ боннъ и горничныхъ.
— Матушка, ты помѣшалась съ горя! Какія бонны? Какія горничныя? Когда онѣ y насъ были? Теперь тебѣ самой въ пору идти въ бонны и въ горничныя.
— Ничего, другъ мой: утѣшайся тѣмъ, что принципъ выше всего! «Взявшись за гужъ» супружества, нельзя же вдругъ возлюбить «не дюжъ» и бросить семейную повозку, увязшую въ грязи.
— Это еще что такое?
— Изреченіе той же журналистки по адресу замужнихъ работающихъ женщинъ.
— Да когда же наша семейная повозка вязла въ грязи? И въ какой грязи?
— Не знаю. Говорятъ, вязла.
— Ты работала въ школѣ… если это называется вязнуть въ грязи, желаю того же всякому.
— Да нѣтъ, ты не понимаешь: пока я работала, таща повозку общественнаго обученія, наша семейная повозка завязла… понялъ?
— Ничего не понялъ. До сихъ поръ мы не вязли. A вотъ теперь пожалуй, что завязнемъ. Да такъ, что и не вылѣземъ.
— Ho, глупый! пойми, вѣдь это въ другомъ, высшемъ смыслѣ, это аллегорія: я запустила безъ ухода тебя, дѣтей…
— Ахъ, что ты все: дѣти, да дѣти! Ну, какъ ты ихъ запустила, когда ты все свое свободное время проводишь съ ними, a когда ты занята, и они заняты, потому что ты учишь въ школѣ, a они учатся.
— Тебѣ не переубѣдить меня. Я хочу «удовлетворять естественныя потребности женщины. Что ни говори работники полной равноправности половъ, a законовъ анатоміи и физіологіи имъ не побороть. Пока женщина должна носить, родить и кормить дѣтей, она все-таки останется самкою, со всѣми инстинктами, отличающими самокъ отъ всѣхъ живыхъ существъ».
— Стало быть, ты — попросту говоря — собираешься плодить ребятъ. Ну, ужъ это дудки-съ! Не по состоянію, матушка! Получай мы по-прежнему полтораста цѣлковыхъ, куда ни шло, можно бы рискнуть — имѣть еще одного… авось бы, когда-нибудь повезло на его счастье, — достукаться до двухъ радужныхъ… A теперь надѣяться не на что, — значитъ, не надо баловаться! Zweikindersystem — и баста!
1897.
О дѣвицѣ-торсъ и господахъ Кувшинниковыхъ
Въ одной изъ столичныхъ газетъ печаталась (1902 г.) курьезная повѣсть о художникѣ, который задумалъ удивить міръ картиною, изображающею утренній кутежъ веселой компаніи съ погибшими, но милыми созданіями. Въ качествѣ моделей для послѣднихъ, художникъ приглашаетъ дамъ изъ порядочнаго общества. Тѣ отказываются. Художникъ оскорбленъ и бранитъ ихъ «мѣщанками» и «идіотками». Симпатіи автора всецѣло на сторонѣ художника, хотя рѣшительно необъяснимо, ни почему проститутокъ необходимо писать не съ проститутокъ же, a съ порядочныхъ женщинъ, ни почему столь обидно художнику весьма естественное отвращеніе порядочныхъ женщинъ къ перспективѣ быть увѣковѣченными на полотнѣ въ совершенно несвойственномъ имъ видѣ подвыпившихъ проститутокъ.
Въ другой столичной газетѣ я цѣлую недѣлю слѣдилъ за необычайно глубокомысленною и пылкою полемикою противъ какихъ-то оперныхъ пѣвицъ «образцовой сцены», имѣвшихъ дерзость отказаться отъ концерта съ благосклоннымъ участіемъ «знаменитой исполнительвицы цыганскихъ романсовъ». Гордымъ пѣвицамъ жестоко вымыты головы, и съ удовольствіемъ констатированъ фактъ, что отказъ ихъ отъ концерта не имѣлъ вліянія на сборъ: публика, очевидно, пришла не для нихъ, a для исполнительницы цыганскихъ романсовъ. Мораль:
— Не важничайте съ вашимъ «святымъ искусствомъ». Грошъ ему вмѣстѣ съ вами цѣна. Если не желаете стоять на одной доскѣ съ «исполнительницею цыганскихъ романсовъ», это убытокъ вашъ, a не ея. Ибо она дѣлаетъ сборы, a вы — нули. Она есть вещь, a вы — гиль.
Лѣтомъ 1901 года одна итальянка изъ кафешантана, особа очень красивая и поддержанная богатымъ и знатнымъ покровительствомъ, пожелала превратиться въ оперную пѣвицу.
— Вы играете на скрипкѣ? — спрашивалъ кто-то кого-то.
— Не знаю, не пробовалъ.
Въ томъ же родѣ были вокальныя познанія красивой итальянки. Тѣмъ не менѣе пикантность ея шальной затѣи сдѣлала возможнымъ даже невозможное. Она пѣла упрощенную Травіату, искаженную Маргариту, подъ крохотный оркестрикъ, разсчитанный, чтобы не заглушить ея голоса, съ постояняымъ подыгрываніемъ мелодіи и т. д. Театръ былъ всегда переполненъ «избранною публикою», которую принято «называть о азаръ»; критики, которые настоящей оперной пѣвицѣ не простятъ ни одной ноты, не то что фальшивой, a хотя бы облегченной, пунктированной, находили всю эту музыкальную анархію весьма милою шалостью; хроникеры безпечальнаго вѣдомства писали отчеты о спектакляхъ только что не въ стихахъ. Когда кто-нибудь дерзновенный заикался напомнить о требованіяхъ искусства, на него смотрѣли дико:
— Какого вамъ еще искусства? Она дѣлаетъ полные сборы, ее всѣ слушаютъ, — вотъ вамъ и искусство.
Кто-то осмѣлился напечатать замѣтку, что итальянка не имѣетъ понятія объ оперномъ пѣніи, фальшивитъ, неритмична. Тогда въ спеціальномъ театральномъ органѣ появилась отвѣтная статья, съ развязною проповѣдью, что это-то именно и хорошо въ итальянкѣ, что она поетъ оперу, не умѣя пѣть такъ, какъ артистки, умѣющія пѣть, — ремесленницы, a итальянка уже самою фальшивостью и неритмичностью своею обнаруживаетъ, съ какою мощью она чувствуетъ музыкальную драму, — она-де выше педантическихъ требованій правильнаго звука и ритма. Даже дурная привычка итальянки считать тактъ всѣмъ корпусомъ, превращая себя въ живой метрономъ, — первое, отъ чего отучаютъ своихъ питомцевъ профессора пѣнія, — даже и эта неуклюжесть была прославляема, какъ верхъ граціозной наивности.
Нѣсколько лѣтъ назадъ, въ Петербургѣ, въ театрѣ А. С. Суворина, шла декадентская переводная пьеса.