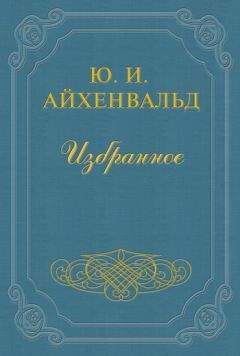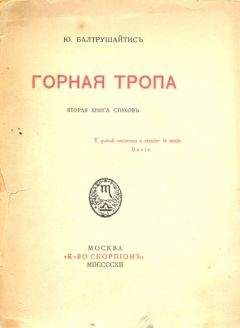Федор Батюшков - Сон в Иванову ночь (Шекспира)
Признавъ влюбленность – «игрой воображенія» («Безумный и влюбленный и поэтъ – составлены всѣ изъ воображенія»), прихотью случая, дѣйствіемъ силы, независимой отъ нашей воли, Шекспиръ въ каррикатурномъ видѣ представилъ это состояніе лишь на примѣрѣ Титаніи, влюбляющейся въ человѣка съ ослиной головой, подъ вліяніемъ волшебнаго цвѣтка, которымъ Оберонъ натеръ ей глаза. Принято считать этотъ тезисъ Шекспира и вообще всю пьесу «Сонъ въ Иванову ночь» проникнутыми очень пессимистическимъ, чтобы не сказать отрицательнымъ взглядомъ на любовь. Однако, тезисъ самъ по себѣ былъ, конечно, весьма не новымъ. Объ «ослѣпленіи любовью» трактовалъ уже Лукрецій (De rerum natura, кн. IV, ст. 1142 слл.), указывая, до какой степени обманываются тѣ, которые поддаются данному душевному настроенію. Позже Мольеръ перефразировалъ указанное мѣсто у Лукреція, вложивъ въ уста Эліанты, въ «Мизантропѣ» (д. II сц. 4), слѣдующій монологъ[10]:
Кто любитъ, склоненъ тотъ хвалить свое избранье
И въ немъ порочнаго не видитъ ничего;
Въ предметѣ страсти все прекрасно для него —
Пороки кажутся въ немъ благомъ очевиднымъ,
Ихъ именемъ спѣшитъ назвать онъ безобиднымъ:
Онъ блѣдную какъ смерть – жасминомъ назоветъ,
И страшно черная – смугляночкой слыветъ,
Свободна и гибка – коль очень худощава,
А слишкомъ толстая – осанкой величава;
Неряха грязная, невзрачная собой —
Тотчасъ же прослыветъ небрежной красотой,
Коль ростомъ велика – богини воплощенье,
А карлица – чудесъ небесныхъ сокращенье.
Коль дура – то добра, лукавая – умна,
Спесивая – носить корону рождена,
Пріятный нравъ найдутъ у слишкомъ говорливой,
Нѣмую прозовутъ невинностью стыдливой:
Такъ всякій, если кѣмъ до страсти увлеченъ,
Въ пороки самые окажется влюбленъ.
Не та же ли основная мысль проводится и Шекспиромъ? Но онъ идетъ дальше и, признавая ошибочность сужденій влюбленныхъ о предметѣ своей страсти, подчеркиваетъ непроизвольность самого увлеченія, которое онъ ставитъ въ зависимость отъ чудодѣйственной силы. Въ этомъ отношеніи Шекспиръ стоитъ на почвѣ вполнѣ національной, германо-романской концепціи: не въ той же ли Англіи родина знаменитаго въ средневѣковой литературѣ сюжета о Тристанѣ и Изольдѣ, хотя и ставшаго намъ впервые извѣстнымъ во французской обработкѣ? И чѣмъ по существу разнится роковой напитокъ, отвѣдавъ котораго Тристанъ и Изольда, въ силу волшебства, должны были полюбить другъ друга, отъ алаго цвѣтка, который приноситъ пукъ Робинъ, по приказанію Оберона? Развѣ не простая случайность, съ точки зрѣнія такого представленія о роковомъ, отъ нашей воли независящемъ источникѣ любовнаго аффекта, – что Тристанъ и Изольда были оба молоды, прекрасны собой, надѣлены всевозможными положительными качествами, и только по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ не должны были смотрѣть другъ на друга какъ на жениха и невѣсту? Получилась поэма незаконной, даже преступной любви, но красивая, привлекательная, потому что прекрасны были оба очарованные. Возможна и оборотная сторона медали, которую и показалъ Шекспиръ: Титанія, по пробужденіи отъ сна, обреченная полюбить перваго, кого увидитъ, встрѣтила не Тристана, а Основу, вдобавокъ съ ослиной головой. Но все таки это судьба, вліяніе роковой силы. Дѣлать ли отсюда выводъ, что Шекспиръ дѣйствительно относился отрицательно къ любовному аффекту, что онъ представилъ каррикатуру для того лишь, чтобы рельефнѣе оттѣнить безрассудство состоянія влюбленности? Несомнѣнно нѣсколько пессимистическая нотка проглядываетъ въ этомъ произведеніи, однако, не безъ другой, положительной точки зрѣнія. И чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить перипетіи четырехъ любовниковъ. Лизандръ любитъ Гермію и любимъ ею, какъ раньше Деметрій любилъ Елену, расположивъ ее къ себѣ. Но внезапная прихоть отклонила Деметрія отъ предмета его первоначальной страсти и заставила выступить соперникомъ Лизандра въ исканіи руки Герміи. Елена покинута и несчастна, но она не теряетъ надежды мольбой и просьбами вернуть къ себѣ сердце Деметрія. Тщетная надежда и ошибочный пріемъ снискать расположеніе любимаго человѣка. Своими приставаніями Елена только надоѣдаетъ Деметрію и еще больше отталкиваетъ отъ себя. Какъ же ей въ концѣ концовъ удалось опять привлечь любовника? Совсѣмъ инымъ и неожиданнымъ способомъ, а именно – самопожертвованіемъ. Да, на нашъ взглядъ, вся сказанная обстановка дѣйствія только красивый вымыселъ, который нисколько не заслоняетъ рѣшеніе проблемы объ измѣнчивости и прихотливости чувствъ на чисто психологической почвѣ. Припомнимъ конецъ перваго дѣйствія: Елена пришла къ заключенію, что не даромъ «крылатый Купидонъ представленъ намъ слѣпымъ и безразсуднымъ»; любовь – прихоть и въ такомъ смыслѣ подвержена всевозможнымъ случайностямъ; такъ Деметрій, измѣнивъ ей, влюбился въ Гермію; такъ впослѣдствіи Титанія, по волѣ Оберона, влюбилась в Основу. Однако, есть въ любви нѣчто, способное возвысить ее надъ прихотью чувствъ и придать ей устойчивость. Пусть Деметрій увлекается красотой Герміи (doting on Hermias eyes), – Елена любитъ въ немъ его достоинства (admiring of his qualities), и это придаетъ болѣе серьезный характеръ ея чувствамъ къ Деметрію. Теперь она рѣшается пожертвовать собой: услыхавъ, что Гермія и Лизандръ уговариваются на слѣдующую ночь бѣжать и встрѣтиться въ лѣсу, за Аѳинами, Елена спѣшитъ сообщить объ ихъ предполагаемомъ побѣгѣ Деметрію; пусть его «спасибо» за эту услугу будетъ ей единственной наградой, и, хотя бы пришлось потомъ ей съ нимъ разстаться на вѣки, оно будетъ ей дорогимъ, прощальнымъ подаркомъ (if I have thankes it is a deere expence). И этотъ подвигъ Елены долженъ быть со временемъ оцѣненъ ея вѣроломнымъ любовникомъ; насколько она отваживала его отъ себя своими приставаніями, настолько побѣдила вновь – безкорыстіемъ чувствъ. Что нужды, что внѣшняя развязка пьесы обусловлена волшебствомъ, за нимъ чувствуется реальная психологическая почва: если на Лизандра нашла внезапная прихоть къ Еленѣ, подъ вліяніемъ цвѣтка, которымъ по ошибкѣ Пукъ натеръ ему глаза, то вѣдь такая же прихоть напала раньше на Деметрія безъ всякаго участія волшебной силы. Несущественность такихъ увлеченій Шекспиръ пояснилъ на примерѣ Лизандра, какъ бы въ назиданіе Деметрію. И вотъ протрезвленный Деметрій возвращается къ своей Еленѣ, которая вновь стала ему мила, когда перестала домогаться его любви; мастерской, по истинѣ геніальный анализъ душевныхъ движеній Шекспира служитъ такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, не къ посрамленію «ребенка Амора» (the boy Love), который, какъ обыкновенно дѣти, склоненъ къ капризамъ, а напротивъ, къ возвеличенію чувства, на нравственной основѣ. И въ общемъ выводѣ, допуская, что пьеса Шекспира была свадебной «маской», мы отнюдь не раздѣляемъ со мнѣній и недоумѣній Ульрици, удивлявшагося выбору сюжета для даннаго случая: онъ какъ нельзя болѣе умѣстенъ, и истинный смыслъ пьесы раскрывается намъ, если вникнуть въ ея суть, а не во внѣшнюю фабулу, какъ бы ни выдѣлялся кричащей нотой горькаго скептицизма эпизодъ съ Титаніей.
Какъ по отношенію влюбленности, такъ и къ поэзіи – воображеніе обоюдоострое оружіе, но оно не подлежитъ безусловному осужденію. Сцена мастеровыхъ, разыгрывающихъ интермедію о Пирамѣ и Ѳисби, представляетъ обратный случай по сравненію съ исторіей Титаніи и Основы, и поэтому стоитъ въ интимной, органической связи съ сюжетомъ драмы. Въ самомъ дѣлѣ, если Титанія «воображеніемъ» облагораживала несчастный предметъ своей страсти, то, какъ личность, она представляется живымъ контрастомъ Основѣ: это воплощенное изящество, красота и грація, которыя стремятся поднять до себя воплощеніе грубости и глупости. Обратно этому мы видимъ изящную и поэтическую легенду о Пирамѣ и Ѳисби, приниженную и искаженную въ уровень съ ограниченнымъ кругозоромъ грубыхъ и необразованныхъ людей, которые безсознательно впадаютъ въ пародію, оставаясь вполнѣ серьезными въ своихъ намѣреніяхъ. Воображеніе покрываетъ ихъ невольный самообманъ и поддерживаетъ въ нихъ иллюзіи относительно собственныхъ талантовъ, какъ у Титаніи относительно мнимыхъ достоинствъ Основы. Не кроется ли въ этой пародіи на драматическое представленіе какого нибудь личнаго предубежденія автора противъ «грубой черни», которую онъ выводилъ на смѣхъ, какъ впослѣдствіи заклеймилъ ее презрѣніемъ въ Каллибанѣ? Наврядъ, хотя, конечно, въ общемъ Шекспиръ отнюдь не можетъ быть подверженъ упреку въ излишнемъ пристрастіи къ толпѣ. Но въ данномъ случаѣ нельзя не усмотрѣть нѣкоторой аналогіи отзыва Тезея, по поводу игры исполнителей интермедіи, съ замечаніемъ Гамлета по поводу искренняго одушевленія актера, прочитавшаго монологъ. Знаменитое выраженіе: – «что ему Гекуба, что онъ Гекубѣ?» устанавливаетъ силу воображенія, благодаря которому актеръ могъ прочувствовать свой монологъ въ такой степени, что голосъ его дрожалъ и слезы показались на глазахъ. А главное, что, усвоивъ данную вымышленную ситуацію, актеръ такъ близко принялъ ее къ сердцу, что говорилъ искренне, точно отъ своего лица. Бѣдные мастеровые-любители очень далеки отъ такого искусства перваго актера въ «Гамлетѣ», которое произвело впечатлѣніе даже на Полонія. Однако, Тезей предупреждаетъ насмѣшки по поводу ихъ исполненія замечаніемъ Ипполитѣ: