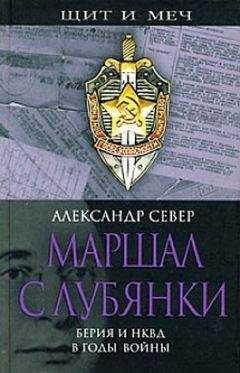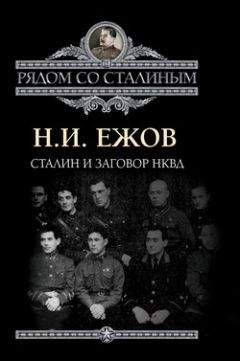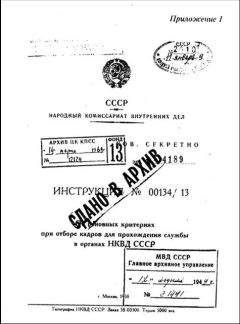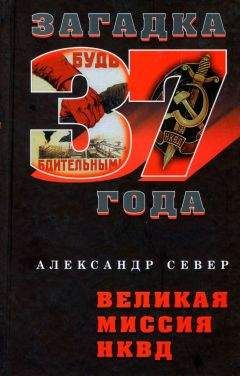Виссарион Белинский - Сто русских литераторов. Том третий
Еще первый том «Ста русских литераторов» показал, что это издание предпринято без всякого плана, без всякого порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составилось общество, члены которого не могут довольно надивиться тому, как они сошлись вместе. Старые писатели смешаны с новыми, гениальные с бездарными, знаменитые с неизвестными, хорошие с плохими: Пушкин с г. Зотовым, Крылов с г. Каменским, Шишков с г. Веревкиным, г. Греч с г. Бенедиктовым и т. д. Но пусть старые писатели смешаны без толку с новыми и молодыми: это бы еще куда ни шло; нехорошо, но так и быть. Хуже всего то, что гениальность смешана с бездарностью, талант с посредственностью, знаменитость с неизвестностью. Конечно, не г. Смирдину взвешивать и сортировать литературные таланты; но все-таки ему следовало крепко держаться в этом отношении основания известности, репутации таланта. Спрашиваем его, ради каких причин г. Зотов попал в его сборник? Говорят, он написал несколько десятков томов; хорошо, но разве мало томов написал известный московский романист Александр Анфимович Орлов{13}, разве романы и повести его не расходились тысячами, и он не нашел себе многочисленной публики? Почему же его не видим мы в числе «Ста русских литераторов»? Или еще, может быть, в котором-нибудь из следующих томов мы будем иметь удовольствие встретить этого счастливого по таланту и славе соперника г. Зотова?.. Дай-то бог!.. Но шутки в сторону, а мы не можем понять, каким образом не понял г. Смирдин, что его издание наповал было убито соседством г. Зотова с Пушкиным? Пусть вспомнит он, что говорилось тогда в журналах, что говорила публика? Кто дал г. Смирдину роковой совет – включить г. Зотова в число ста русских литераторов?
Но одним ли этим убито это издание! Вот перечень литераторов, которых статьи и портреты помещены в трех томах «Ста русских литераторов»: Александров, Марлинский, Давыдов, Зотов, Кукольник, Полевой, Пушкин, Свиньин, Сенковский, Шаховской, Булгарин, Вельтман, Веревкин, Загоскин, Каменский, Крылов, Масальский, Надеждин, Панаев, Шишков, Бенедиктов, Бегичев, Греч, Марков, Михайловский-Данилевский, Мятлев, Ободовский, Скобелев, Ушаков, Хмельницкий. Прежде всего посмотрите: все ли из поименованных тут литераторов имеют право быть помещенными во «Ста русских литераторах» и всех ли их портреты любопытны для публики; потом: все ли они вовремя и кстати попали в эту книгу и, наконец, всех ли их статьи стоили напечатания? В то время, как вышел первый том «Ста русских литераторов», известность г. Александрова (г-жи Дуровой) была в полной ее апогее; теперь появление портрета и статьи этого писателя было бы несвоевременно, потому что, по причине быстрого хода нашей литературы и нашего общества, у нас многое скоро забывается; тогда же (1839) это было и вовремя и кстати; но статья{14} г. Александрова «Серный ключ» была больше чем слаба и не стоила печати. Статьи Марлинского – «Мулла-Нур» и «Месть» и стихотворение «Сон» были из рук вон плохи; одна фразеология, надутая и напыщенная, без всякой примеси блесток таланта, которых не чужды были по крайней мере лучшие из прежних сочинений этого писателя. Портрет Давыдова был как нельзя лучше кстати и вовремя – вскоре после смерти этого даровитого и замечательного человека; статья его, при портрете – «Тильзит в 1807 году», была исполнена большого интереса и написана прекрасно. О г. Зотове мы сказали. Портрет г. Кукольника как нельзя больше был кстати и вовремя: опоздай он явиться годом, двумя, или, например, явись он теперь, в третьем томе этого издания, – и он не имел бы уже того интереса, потому что теперь г. Кукольник уже не надежда в будущем, как тогда был, отчего и прежние его труды получили теперь совсем другое значение, нежели какое тогда имели… Статья г. Кукольника «Иоанн-Антон Лейзевиц» – одно из лучших его произведений и читалась с большим удовольствием. Портрет г. Полевого не мог быть не интересен для русской публики, которой он оказал столько услуг, хотя уже в это время его слава была на ее повороте с апогеи. Повесть его «Дурочка» была как все его повести; может быть, для этого-то он и дал в эту книгу другую свою статью, более любопытную и дельную – «О бумагах и заметках, оставшихся по кончине Петра Великого в его собственном кабинете». О портрете Пушкина и его статьях – «Каменный гость» и «Одна глава из неоконченного романа» здесь не место распространяться: первая превосходна, вторая интересна. Портрет г. Свиньина решительно неуместен, потому что г. Свиньин был, если хотите, литератором, но весьма незамечательным; поэтом же и беллетристом никогда не был, а сделался тем и другим по желанию г. Смирдина, который предположил принимать во «Сто русских литераторов» преимущественно повести, драмы и стихотворения. Удивительно ли после этого, что драма г. Свиньина «Александр Данилович Меншиков» больше нежели плоха?.. Портрет г. Сенковского был кстати, а статья его отличалась обыкновенными достоинствами и недостатками этого писателя. Но портрет князя Шаховского опоздал годами пятнадцатью по крайней мере; он был бы на своем месте и не был бы лишним, если бы «Сто русских литераторов» были картинною и вместе историческою галереею русской литературы. Повестей князь Шаховской никогда не писал, и повести – совсем не его род; присовокупите же к этому, что в то время он был писателем, который уже давно и выписался и отстал от времени, – и вы сами поймете, какова была его повесть «Маруся»… И вот первый том, который, однако ж, все-таки был лучше второго.
Во втором томе помещен портрет Крылова и напечатана его басня «Петух и Кукушка»; как бы хорошо было для чести и успеха издания, если б портрет Крылова и его прекрасная басня попали в первый том… Портрет г. Булгарина был бы очень кстати в 1829 году, когда вышел в свет его «Иван Выжигин». Повесть г. Булгарина «Победа от обеда» была лучшею повестью во втором томе «Ста русских литераторов»: до того плохи все остальные повести в этом томе!.. Портрет г. Вельтмана, конечно, был интересен для почитателей таланта автора «Кощея бессмертного», но повесть его «Урсул» очень неудачна… Каким образом зашел во «Сто русских литераторов» портрет г. Веревкина – не понимаем. Г-н Веревкин написал во всю жизнь свою две или три повести, довольно незначительные, в которых он, по – крайнему своему разумению, острил à la Барон Брамбеус и, как всякий подражатель, был ниже своего образца… Повести г. Веревкина (Рахманного) годились для журнального обихода, в свое время были перелистованы, да тут же и забыты, как забывается все, что не выходит за черту обыкновенности. Где ж тут право на знаменитость? Зачем публике был портрет г. Веревкина? Разве затем, чтоб она спрашивала:, да кто же этот г. Веревкин и что такое написал он? Для разрешения этих вопросов публике оставалось только прочесть предсмертный рассказ г. Веревкина – «Любовь петербургской барышни», приложенный к портрету автора, – и публика в этом предсмертном рассказе ничего не нашла, кроме плоских острот дурного тона и напыщенных претензий посредственности. Портрет г. Загоскина опоздал целыми десятью годами; но все же это был портрет автора, имевшего в свое время большой успех и доселе пользующегося на Руси большою известностью, – и потому мы ничего не говорим против помещения портрета его во «Сте русских литераторах»; жаль только, что повесть г. Загоскина «Официальный обед» была очень плоха. Портрет г. Каменского имел еще меньше права на появление во «Сте русских литераторах», нежели портрет г. Веревкина, потому что у последнего была по крайней мере хоть какая-нибудь способность писать. Пародист Марлинского, г. Каменский, оказал русской литературе одну только услугу: он своими повестями совершенно доконал славу своего образца, показав, как легко упражняться в этом ложном роде литературы, даже и не имея таланта, и, особенно, как смешон этот род. Повесть г. Каменского «Иаков Моле», по обыкновению сочинителя, написана была в высоком тоне, но, по обыкновению читателей, возбудила в них только смех. Но портрет г. Масальского имел еще менее права на место во «Сте русских литераторах», нежели портрет г. Каменского, потому что повести последнего чуть было не получили в Петербурге чего-то похожего на минутный успех, благодаря возгласам журнальных благоприятелей{15}, тогда как сочинения г. Масальского всегда засыпали в тишине и в глубокой тайне от публики, несмотря на двусмысленные, всегда умеренные и воздержные похвалы журнальных благоприятелей. Г-н Масальский, вместе с гг. Зотовым и Воскресенским, образует плеяду романистов средней руки, за которыми уже следует гг. Орлов (Александр Анфимович), Кузмичев, Славин, Б. Ф(Θ)едоров, Брант, Войт, Машков и другие. «Осада Углича», повесть г. Масальского, и «Дерево смерти», его же стихотворение во втором томе «Ста русских литераторов», вполне могут служить вывескою бесталанности этого сочинителя. Портрет г. Надеждина попал в знаменитое число «ста» почти в то самое время, как этот литератор почти совсем сошел с литературного поприща: стало быть, нельзя сказать, чтоб некстати и не вовремя. Но г. Надеждин не иначе мог сделаться одним из ста, как написав повесть – условие sine qua non!..[2] И г. Надеждин, повинуясь необходимости, написал повесть – «Сила воли», за которую да простит его Феб!.. Портрет знаменитого нашего идиллика г. Панаева (В. И.) опоздал с лишком двадцатью годами: его «Похвальное слово государю императору Александру» вышло в 1816 году, «Историческое похвальное слово светлейшему князю Голенищеву-Кутузову-Смоленскому» – в 1823; важнейшее же произведение его таланта, то есть «Идиллии», вышли в 1820 году. Впрочем, рассказ при портрете, «Происшествие 1812 года», не заключал в себе никакого особенно интересного происшествия и, надо признаться, далеко уступает в достоинстве не только знаменитым «Идиллиям», но и повести того же автора «Иван Костин», которая, помнится, была напечатана в образцовых сочинениях и пользовалась в свое время большою известностью. Портрет Шишкова опоздал целыми тридцатью восемью годами, потому что его пресловутое «Рассуждение о старом и новом слоге» вышло еще в 1803 году. Статья при портрете, «Воспоминание о моем приятеле», была написана уже одряхлевшею рукою, и притом по случаю, как à propos[3] для портрета. Вот и второй том «Ста русских литераторов». – Перейдем к третьему. «Воспоминания о графе Милорадовиче», статья нашего военного Тита Ливия и Плутарха, генерала Михайловского-Данилевского, отличается сколько занимательностью содержания, столько и мастерским изложением. И кому бы из русских могли быть не интересны подробности о личном характере русского Баярда, рыцаря без страха и упрека, особенно когда эти подробности изложены живым и увлекательным пером воина-литератора, который давно уже приобрел себе в русской литературе значение классического военного писателя?.. Портрет схож и сделан превосходно{16}. «Письмо чесменского инвалида на родину» (писано для солдат) принадлежит другому воину-литератору, который создал себе особый, свой собственный род литературы, скрыв от всех его тайну, почему и нет никакой возможности подражать ему, и который также создал себе свою особенную публику, которая не ухвалится, читая грамотки своего отца-командира{17}. Жаль только, что «Письмо чесменского инвалида» не прочтут именно те, для кого оно написано: для них слишком дорога эта книга, да и большая часть в ней – все лишнее для них. Надобно было бы отпечатать эту статью еще отдельною книжкой.