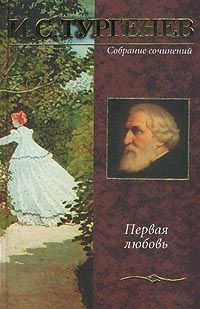Юлий Айхенвальд - Тургенев
Часто прямолинейный, общий и поверхностный, Тургенев зато искренен и увлекается там, где рисует разлуку с жизнью уходящей, где слышит ее последние грустные аккорды, где в колорите меланхолии показывает эту «одинокую, тяжелую» слезу Павла Петровича, в котором трепещет целая жизнь. И так хорошо заканчивает он свою милую «Асю»: «осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню как святыню ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна». Встает перед нами и другой бобыль, «черная лилия» Михалевич со своим «легким до странности чемоданом» (такой же был и у Рудина). Образ Санина из «Вешних вод» проникнут истинной элегичностью, и этот портрет дочери Джеммы, присланный из-за океана, тихой болью и грустью воспоминания волнует душу. Жаль только, что Тургенев нарушил чувство меры и заставил Санина собираться в Америку. Едва ли он соберется… Зато безупречно прекрасна заключительная страница «Дворянского гнезда», и столько сердца и содержания вложено в эти слова: «я – Лаврецкий»: нежная и чистая, не то словесная, не то струнная элегия русской литературы!
Все уходящее, отмирающее, ликвидация жизни были близки Тургеневу потому, что и сам он всегда оглядывался назад и печаловался на иссякновение дней своих. Он не был благодарен к жизни вообще, и к своей личной; между тем она дарила ему так много, дала ему пережить не только собственную молодость, но и всю эту молодежь его произведений; невеликодушный, он тосковал, плакался и, такой поклонник Пушкина, никак не мог повторить за ним этого мудрого, и ясного, и благородного: «простимся дружно, о юность легкая моя!» Как наказание постигла его старость, и он уныло ее сознавал. Он не умел быть старым. И не хотел он победить в себе всякую зависть и это понятное, но не мужественное сожаление о розах, которые были так хороши и свежи, о всех этих девушках, которые цветут не для него. И потому не трогает его изящный пессимизм, его томная и красивая печаль, не вызывает сочувствия дух усталости, который веет над его последними страницами. Он знал этот «невольный испуг», когда человек, просыпаясь, спрашивает себя: «Неужели мне уже тридцать… сорок… пятьдесят лет?»; у него был неподдельный страх старости, страх смерти, но в литературе он кокетничал и с самой смертью.
Не для того чтобы ослабить жесткость предыдущих строк, не для того чтобы смягчить оскорбление литературного величества (если только можно считать оскорблением трудно и нерадостно созидавшееся убеждение читателя), а во имя истины следует прибавить одно: то, что сказано раньше, можно и должно сказать о Тургеневе, но все же Тургенев – это музыка, это – хорошее слово русской литературы, это – очарованное имя, которое что-то нежное и родное говорит всякому сердцу. Может быть, это не мирится с его характеристикой, нами предложенною только что, но это – факт, психологический факт. Credo quia absurdum est[2]. Впрочем, не абсурдно, не лживо то дуновение красоты, которое все-таки несется, несется на нас от клавикорд тургеневской поэзии. Можно отвергнуть Тургенева, но остается именно тургеневское – та категория души, та пленительная камерная музыкальность, которой он сам вполне не достиг, но счастливая возможность которой явствует из его же творений. Сладкий запах лип, и вообще эти любимые тургеневские липы, и старый сад, и старинный ланнеровский вальс в истоме «незаснувшей ночи», и «особенный, томительный, свежий запах русской летней ночи», и в ее тенях невидимый, но милый Антропка, которого тщетно кличет звонкий голос брата, и те жаворонки, что на крыльях своих уносят росу и ею орошают свои ликующие песни, самый воздух утра пронизая музыкой, и все эти сирени и беседки, освященные тургеневской любовью, и пруд из «Затишья», и тихая Лиза в тишине монастыря, и усадьба, теперь испепеленное дворянское гнездо, над которым в наши дни грустно склоняется седая тень Тургенева, и, как душа всему этому, фея усадьбы, молодая девушка, та, которая некогда чаровала воображение русских юношей и под заветным именем все той же Лизы, или Елены, или Маши, или Наташи будила чистейшие видения идеализма, – все это духовно не умирает, и с ними и постольку не умирает и Тургенев. Он уходит в прошлое, но прошлое не смерть. Над ним реет благодарность за все, что он дал нашей молодости; нельзя обернуться назад, чтобы не увидеть его, чтобы не обступили нас подернутые элегической дымкой хороводы тихих теней. Объективная правда многое в нем осуждает и горечь своего невольного отрицания вносит в его сладостные страницы; но субъективно Тургенев остается дорог, как настроение, как воспоминание, как первая любовь.
Примечания
1
помимо него (фр.)
2
верю, потому что нелепо (лат.)