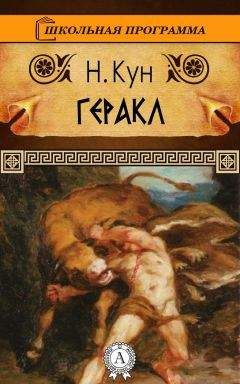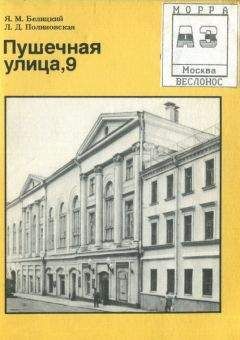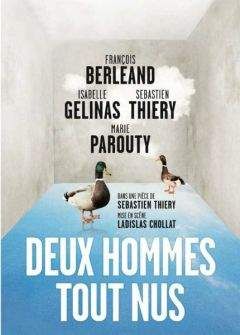Илья Фаликов - Улица Луговского
Увы. Однако своего «Фауста» Луговской создает — Рейн слегка ошибся — не под занавес. В начале сороковых ему чуть за сорок. Чуть не лучшее из того, что он тогда написал, не вошло в книгу поэм, но писалось для нее. Эти вещи надо назвать: «Вступление (К поэме „Сказка о печке“)», «Крещенский вечерок», «Каблуки», «Средь сосен, в доме, пахнущем карболкой…». По этим шедеврам можно судить, какова была бы ценность вообще всего творчества Луговского, кабы не… надо ли определять? Если бы да кабы. Это беспримесно чистая порода, без позднейших загрязнений, правок и нивелировок 56-го года, когда Луговской готовил книгу к печати. В том же 56-м он намахивает совсем уж никудышные опусы — «Москва», «Юность».
В иных вещах «Середины века» он воспроизводит на другой лад свои рифмованные стихи: «Девушка моет волосы» или «На смерть матери». Стихи переводит — в почти прозу. Обычно поступают наоборот: зарифмовываются прозаические наброски. Луговской пытается отменить себя прежнего. Но о матери он пишет две вещи одновременно, в 43-м. Ему всегда не хватало единственного высказывания.
Борис Рыжий: «Потому что все меня любили, / дерева молчали до утра. / „Девочке медведя подарили“, — / перед сном читала мне сестра» («Прежде чем на тракторе разбиться…», 1999). Борис запомнил эти стихи наизусть и читал их уже своему сыну Артему. Тогда же он написал «На мотив Луговского», в котором сказано: «Мне от сказок ничего не надо, / кроме золотого волшебства». Значит, сказка? Выходит, так. Золотой сон на фоне наших изумительных дней. Полная аналогия с тем, к чему клонил Луговской в свои восхитительные времена. Когда в «Новом мире» (2000) было напечатано мое «Памяти Луговского», Борис позвонил мне, делясь волнением.
Межиров написал своего «Медведя» с оглядкой на «Медведя» Луговского, не без полемики с предшественником. Луговской мощно влиял и был героем новых поэтов после войны — будучи в упадке. Парадокс. Двусмысленность межировской пиесы «Коммунисты, вперед!» и многое другое вообще — оттуда же. Он вел литинститутский семинар еще до войны. Это он их обучил лживой меди послевоенного пафоса. Дядя Володя. Так называли его тогда молодые. Великолепный гигант, человек из Голливуда, с платочком в нагрудном кармашке привозного бостона, с маяковской тростью. Глыба пустоты? Если бы. С этим было бы проще. Нет — и нет. А он есть. Голос. Практически — музыка без слов. Бывает? Не бывает. Но есть. Или это играет в памяти какая-то пластинка?
Межиров: «Свист соловьиный, клекот орлиный слышишь, Елена?» Луговской: «Ах, Елена, Елена, зачем ты мне снишься!» Мое чувство к Луговскому возникло до появления в моей судьбе Межирова. Он тут почти ни при чем. Если не считать «Серпухов», прочитанный позже. «А на Сретенке в клетушке, / В полутемной мастерской, / Где на каменной подушке / Спит Владимир Луговской…»
Владимир Солоухин. Роман «Мать-мачеха» (1964). Такой эпизод. Молодой поэт в кризисе приходит к наставнику. Роскошная жена мэтра обыскивает его в дверях. Не находит в портфеле чекушек, принесенных им для мастера по его телефонной просьбе. Мастер мгновенно напивается, из сереброглавого исполина превратившись в древнего пепельнолицего старца. Говорит лежа:
— Не думайте о временном.
У Владимира Соколова есть невнятно-симпатичная вещь «Мой учитель был берегом, улицей, домом…». Думаю, за этими стихами стоит Луговской. Соколов бормочет и, как всегда, не выносит вердикта, до которых и не был охоч. Там, в стихотворении, что-то железное и туманное одновременно. Между прочим, если это о Луговском, то очень точно. Железная туманность, туманное железо.
Луговской великолепно знал Мандельштама. Его туманы и сдвиги, сочетание случайностей, бродяжество во временах, стыки культур, внезапность краски, «изюминка безумия» — из опыта О. М. Нельзя сказать, что это бессовестно со стороны ученика. Он просто знал, что так надо писать. Что это хорошо, а не плохо, несмотря на.
Вся его Елена вышла из Мандельштама.
Ах, Елена, Елена. Не Елена, другая. Греки сбондили Елену.
Тщедушную, страшненькую Надежду Яковлевну он назвал «великая старуха», когда привел к ней Майю.
Иван Жданов: «Но звук сошел на нет. И вот на ровной ноте / он держится в тени, в провале пустоты» («Крещение»). Метафизическая пустота Жданова — невольная реплика на пустоту луговского типа. Уйти со сцены — это смог Жданов, но не Луговской.
Дмитрий Сухарев некоторое время назад (давно, 2002) провел опрос поэтов в режиме, я бы сказал, телефонной атаки: вот так, с ходу, назвать 12 лучших стихотворений ХХ века. После грандиозно-кропотливой работы над собранным материалом результаты сухаревского эксперимента обнародованы в «Иерусалимском журнале» (2010, № 35) и в Интернете[1]. Там Луговской возникает не раз и не два, чаще всего — «Курсантская венгерка». Среди экспертов (термин Сухарева), отметивших Луговского, — старшие поэты: Русаков, Ряшенцев, Сикорский, Фоняков, Шкляревский. Я не назвал Луговского, но, как выяснилось, я — единственный, кто вспомнил Брюсова («Конь блед»). Это я к тому, что и нынешние мои заметки если и не глас вопиющего в пустыне, то как минимум сугубо субъективное, частное мнение о поэте, пренебрегаемом нашей славной современностью.
Эмблемой Луговского была «Песня о ветре», вещь столь же заводная, сколь жутковатая. «Ты прости, прости, прощай! / Прощевай пока, / А покуда обещай / Не беречь бока, / Не ныть, не болеть, / Никого не жалеть, // Пулеметные дорожки расстеливать, / Беляков у сосны расстреливать». Ну так еще ушкуйник из первой книги жаждал черт знает каких подвигов, а тут — полная стихия, Россия пошла в кровавый разгул, и уже ничего и никого не жаль, ни себя, ни других. «На сером снегу волкам приманка: / Пять офицеров, консервов банка. / „Эх, шарабан мой, американка! / А я девчонка да шарлатанка!“» Песню свою Луговской ведет под джаз-банд нэпа. «О войнах, которым стихи не нужны». Это те самые ритмы, которые ломают дома и раскачивают колокола.
Человек эпохи не церемонится с человеком как таковым. «Он видит не человека, / а ненависти ком. / За сорванную посевную / и сломанные труды / Совсем небольшая расплата — / затылок Иган-Берды». Это — из «Большевикам пустыни и весны». Советская киплингиана в действии, миссия белого человека (=большевика). Богато инструментованная газетчина. Море текстов, чуть не главный герой — шакал. На нынешний взгляд, лишь четыре убедительных строки, относящихся к поэзии, а-ля Гумилев: «По ночам, в непроходимой чаще / Времени, все чаще слышу я, / Как ревет в крови моей летящей / Грузная махина бытия». Впрочем, в этой полужурналистской фактологической эпопее каким-то чудом зафиксирован раскаленный воздух пустыни, то есть времени. Азия. Это больше Лев Гумилев, чем его отец.
Оппонент автогероя вещает: «Все в мире перекрошится, / Оставя для веков / Сафьяновую кожицу / На томике стихов» («Послесловие»). Если бы мне заказали составить оный томик Луговского, я бы оказался в тупике. Ведь стихи состоят из слов, не из нотной грамоты, а куда деть весь этот мусор, слушая лишь голос? «Курсантская венгерка», «Лозовая» — чудесная романтическая лирика. Пафос, печаль, вздох об уходящей молодости — все увязано, все есть.
Что у Луговского — культ Сталина? Культ молодости. Тоже свойство тоталитаризма. Но и лермонтовский плач о погибшей молодости. Что касается идеологического догматизма, это наверняка вопрос не мировоззренческий. Это вопрос к психиатрам. Целая генерация, состоящая из мильонов людей, перенесла страшную травму крушения иллюзий и тем не менее цеплялась за них, отнюдь не всегда из корысти. Начал и концов не найти, все перемешано. Деятельность художника обретает медицинский интерес. Большой художник достоин внимания хотя бы из этих соображений.
Не надо думать, что я тут говорю в пандан книгам Белинкова об Олеше и Карабчиевского о Маяковском, не говоря о море перестроечного разоблачительства. Я не пишу антикоммунистического манифеста. Мои заметки — о поэзии, о поэте.
Я тут, на юге, наборматываю вирши: «Жуть и муть, не слишком голубая, и в бреду, не очень-то моем, сняв удавку, Майя Луговская требует эссе о Луговском».
Насчет голубизны. И розовости. Задним числом я узнал, что Симеиз — столица геев и лесбиянок, коих свыше 30 000 прокатывает здесь каждое лето. Вот вам и ревромантика.
Иван, куда тебя занесло?
В Сети увидел: три великих поэта Октября (Багрицкий, Луговской, Сельвинский). Странноватая выгородка, на троих, и не больше. Октябрь как тема не обошел никого из поэтов той поры. Этой троице в данном случае придается какое-то особое, разделительное значение в смысле величия. Условное величие. Тематическое, что ли. А ведь Луговской настаивал на том, что он русский поэт. Отчего же его не назвали великим русским поэтом? То-то и оно. Привязка к теме ущербна. Я вот, скажем, полагаю[2], что Багрицкий связан с Февралем не менее, чем с Октябрем, целых три «Февраля» им написаны, ну так и что — великий поэт Февраля? Чушь. У Кибирова есть шикарные стихи про колбасу. Великий поэт колбасы?