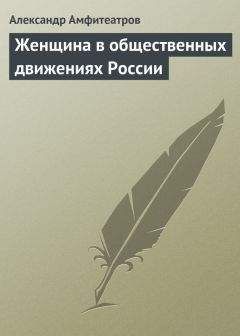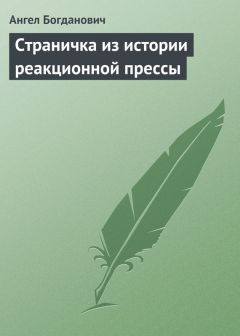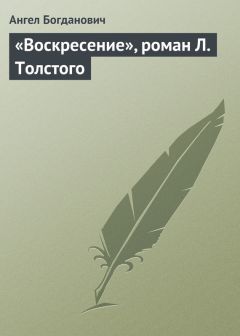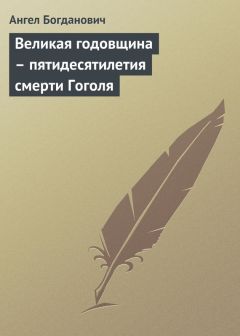Николай Страхов - Историки без принципов
«Какъ я ни старался», говоритъ Сентъ-Бёвъ, «я былъ и остаюсь только изслѣдователемъ, только искреннимъ, внимательнымъ и взыскательнымъ наблюдателемъ. И даже, по мѣрѣ того, какъ я подвигался впередъ, когда очарованіе исчезло, я и не хотѣлъ бытъ ничѣмъ инымъ. Мнѣ казалось, что за отсутствіемъ поэтическаго пламени, которое раскрашиваетъ, но и обольщаетъ, нѣтъ болѣе законнаго и болѣе почтеннаго употребленія ума, какъ видѣть вещи и людей какъ они есть, и изображать ихъ такъ, какъ ихъ видишь, описывать вокругъ себя, по долгу служителя науки, разновидности рода человѣческаго, различныя формы человѣческой организаціи, странно видоизмѣняемой, съ нравственной стороны, въ обществѣ и въ искусственномъ дедалѣ ученій. А какое ученіе болѣе искусственно, чѣмъ ваше! Вы (т. е. янсенисты) вѣчно говорите объ истинѣ и вы всѣмъ пожертвовали тому, что явилось вамъ подъ этимъ именемъ: я былъ на свой ладъ человѣкомъ истины, былъ такъ далеко, какъ только могъ ея достигнуть».
«Но вѣдь и это — какъ это мало! Какъ нашъ взглядъ ограниченъ! какъ скоро останавливается! какъ онъ похожъ на свѣточъ, зажженный на минуту среди безмѣрной ночи! И какъ тотъ, кто всего ближе принималъ въ сердцу познаніе своего предмета, для кого было высшею наградою — уловить его, и высшею гордостью — изобразить его, чувствуетъ себя безсильнымъ и ниже своей задачи въ тотъ день, когда, видя ее почти оконченною и результатъ добытымъ, онъ сознаетъ, что въ немъ затихаетъ охмѣленіе силы, и что имъ овладѣваетъ окончательная слабость и неизбѣжное отвращеніе, и когда онъ замѣчаетъ въ свою очередь, что и самъ онъ есть лишь одна изъ мимолетнѣйшихъ иллюзій въ нѣдрахъ безконечной иллюзіи».
Слова эти прекрасны по чувству боли, глубокой тоски, которыми проникнуты. Вотъ умное и точное выраженіе того душевнаго состоянія, въ которое необходимо придетъ историкъ безъ всякихъ принциповъ, если онъ не риторъ, а серьезный человѣкъ.
Но Ренанъ нимало не думаетъ тосковать. Выписавши это грустное размышленіе, онъ весело выражаетъ свое сочувствіе Сентъ-Бёву.
«Можно-ли быть», говоритъ онъ, «лучшаго свойства мудрецомъ изъ этой милой и кроткой школы Экклезіаста, который, не по скептицизму, а въ силу опыта и зрѣлости, любилъ повторять безпрестанно: все суета!» (Nouvelles études, p. 498).
Справедливо замѣтилъ какъ-то Шеллингъ, что для того, чтобы быть скептикомъ, нужно обладать легконравностію, хорошимъ настроеніемъ духа; таковы и были Юмъ и Кантъ. Можетъ быть, веселый Ренанъ есть новое подтвержденіе этого замѣчанія. Но очень дурно и вредно, когда скептицизмъ выдается за глубину и истинную науку.
X
Истина въ исторіи
Ложное понятіе объ исторіи происходитъ отъ того-же, отъ чего вообще міръ человѣческій есть поприще всякаго рода лжи. Человѣкъ живетъ двойною жизнью, потому что, кромѣ дѣйствительности, у него есть область мысли, допускающая всевозможныя искаженія. Такъ, напримѣръ, дѣйствительное знаніе, какой-бы степени и вида оно ни было. всегда содержитъ въ себѣ истину. Но, такъ-какъ мы, въ нашей мысли, можемъ принимать неполное знаніе за полное, частное за общее, внѣшнее за внутреннее, то и раждаются безконечныя заблужденія.
Если я понялъ какую-нибудь теорему геометріи, убѣдился въ ея истинѣ, то я уже не могу смотрѣть на нее иначе, какъ на истину, не могу говорить, что это было только мнѣніе нѣкотораго Эвклида, жившаго за триста лѣтъ до Р. X. Эту точку зрѣнія, столь ясную для математики, необходимо прилагать и во всякимъ другимъ, когда-либо высказаннымъ мыслямъ и ученіямъ, хотя такое приложеніе и несравненно труднѣе, чѣмъ для геометріи. Въ сущности, понимать исторію, которая вѣдь, прежде всего, есть изложеніе чувствъ, образа мыслей и дѣйствій минувшихъ поколѣній, есть самая трудная и высокая задача для ума. Тутъ требуется безграничное расширеніе нашихъ понятій; при полной строгости пріемовъ, тутъ, очевидна, должно оказаться неизмѣрино больше вопросовъ, чѣмъ понятыхъ явленій.
Возьмемъ нравственныя ученія, которыя обыкновенно считаются дѣломъ самымъ простымъ, не требующимъ усилій и подготовленій для своего постиженія. Въ дѣйствительности, только тотъ можетъ нѣсколько понимать ихъ силу и различныя степени, кто самъ высоко поднялся въ нравственной жизни; иначе они останутся въ его глазахъ мертвою буквою. Дана, положимъ, заповѣдь: «любите враговъ своихъ». Тогда одно изъ двухъ. Или мы ее уразумѣемъ въ ея истинномъ смыслѣ и истинныхъ основаніяхъ, и тогда непремѣнно признаемъ ее и своею заповѣдью, будемъ всею душею стремиться исполнять ее, и не будемъ говорить, что это есть лишь историческій фактъ, что такъ училъ двѣ тысячи лѣтъ назадъ нѣкоторый раввинъ. Или-же мы не уразумѣемъ заповѣди, найденной нами въ древней книгѣ, и тоща, что бы мы объ ней не говорили, мы напишемъ такую-же исторію, какъ тотъ, кто сталъ-бы писать исторію математики, не понимая математическихъ теоремъ.
Каждый человѣкъ судитъ о другихъ по себѣ; каждый поэтъ создаетъ образы по своему образу и подобію. И если гибкость ума и таланта даетъ возможность постигать жизнь далеко не похожую на нашу, то, во всякомъ случаѣ, высота общаго уровня, до котораго мы можемъ подняться въ пониманіи чужой жизни, опредѣляется нашею собственною высотою.
И такъ, изучая столь высокую жизнь, какъ жизнь основателей христіанства, стремясь истолковать вовнѣ духъ и новое ученіе, нѣкогда возродившее міръ, мы. насколько поймемъ христіанство, настолько станемъ его ревностными исповѣдниками, и наше изслѣдованіе будетъ мѣриломъ нашей нравственности и нашего пониманія религіи.
Не будемъ несправедливы къ Ренану. Несмотря на отсутствіе ясныхъ принциповъ и вопреки дурнымъ правиламъ, ясно имъ выставляемымъ, онъ на дѣлѣ, какъ человѣкъ съ чуткимъ умомъ я сердцемъ, менѣе многимъ другихъ ушелъ отъ положительныхъ требованій, лежащихъ на историкѣ. Знаменитый профессоръ-богословъ старикъ Газе пишетъ объ этомъ слѣдующее: «меня увѣряли, что именно эта книга (т. е. Vie de Jésus Peнана), которая въ глазахъ строго настроенныхъ христіанъ является легкомысленною, пробудила христіанскіе интересы въ другихъ людяхъ, бывшихъ дотолѣ равнодушными. Да въ ней и есть поэзія, есть благоговѣніе» (Geschichte Jesn. Leipz. 1876, S. 154).
Вотъ то дѣйствіе, которое должна производить исторія; и если Ренанъ, воображая себя какимъ-то научно безстрастнымъ изслѣдователемъ, достигъ однако нѣкоторой доли этого дѣйствія, то онъ, значитъ, на дѣлѣ впалъ въ противорѣчіе съ самимъ собою. Впрочемъ, какъ мы видѣли, онъ лично ничуть не боится упрековъ въ противорѣчіи; но для утѣшенія другихъ, менѣе безстрашныхъ, необходимо твердо заявить, что и впадать въ противорѣчіе иногда вѣдь вовсе не бываетъ надобности.
XI
Философія Ренана
Какъ-бы ни противорѣчилъ самъ себѣ писатель, какіе-бы виды ни принималъ на себя, прикидываясь и пуская пыль въ глаза, дѣйствительная его душа, истинный образъ мыслей и чувствъ не можетъ вполнѣ укрыться, а только яснѣе обнаружится для того, кто умѣетъ понимать душевныя проявленія. Такъ и относительно Ренана нужно сказать, что, какъ ни усердно онъ забавляетъ читателей и себя самого, какъ ни искусно онъ прячется за блестящей мыльной пѣной, которую взбиваетъ вокругъ себя, но для спокойнаго и пристальнаго взгляда никакъ не могутъ остаться тайною его основные вкусы и понятія. Кто сумѣетъ осадить эту пѣну, для того въ остаткѣ иногда получится только немножко мутной и малосодержательной жидкости.
Въ отношеніи въ философіи, очевидно, что у Ренана нѣтъ ничего твердаго и яснаго, а что всего хуже, — нѣтъ сознанія этого недостатка, нѣтъ тоски по твердомъ и ясномъ. Его разсужденія о томъ, почему онъ отвергаетъ чудеса, его исповѣданіе эмпиризма, опредѣленіе сверхъестественнаго и пр., - словомъ, всѣ случаи, гдѣ онъ пытается логически опредѣлить и связать свои мысли, — ниже всякой критики. Совершенно ясно, что въ своихъ взглядахъ онъ руководится не послѣдовательнымъ развитіемъ извѣстныхъ началъ, а смутными и перекрещивающимися симпатіями. Симпатіи эти указать вовсе не трудно. Въ Ренанѣ, какъ онъ самъ признается, очень сильно говоритъ чувство человѣка, вышедшаго изъ подземелья на свѣтъ яркаго дня. Отсюда у него то, что Пушкинъ однажды назвалъ слабоумныхъ изумленіенъ передъ своимъ вѣкомъ. Мы говоримъ здѣсь объ умственномъ движеніи, а не о нравственности. Въ нравственномъ и политическомъ отношеніи Ренанъ судитъ о современности самостоятельно, и часто строго и вѣрно. Но умственными явленіями нашего времени онъ совершенно ослѣпленъ и старается только не отстать отъ просвѣщенія. Онъ раздѣляетъ обыкновенное предубѣжденіе въ пользу естественныхъ наукъ, ожидаетъ отъ нихъ познанія самой сущности вещей, видитъ въ нихъ всю силу и все спасеніе. Свои общія философскія убѣжденія онъ однажды выразилъ слѣдующимъ образомъ:
«Живое увлеченіе, которое я питалъ къ философіи, не ослѣпляло меня относительно достовѣрности ея результатовъ. Я очень скоро потерялъ всякое довѣріе къ этой отвлеченной метафизикѣ, имѣющей притязаніе быть наукою внѣ другихъ наукъ и независимо разрѣшать высочайшія проблемы человѣчества. Положительная наука осталась для меня единымъ источникомъ истины. Впослѣдствіи, я испытывалъ нѣкоторое раздраженіе при видѣ преувеличенной репутаціи Огюста Конта, возведеннаго на степень перворазряднаго великаго человѣка за то, что онъ сказалъ, дурнымъ слогомъ, то, что всѣ научные умы, въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ, видѣли такъ-же ясно, какъ и онъ. Научный духъ лежалъ въ самой основѣ моей природы» (Souvenirs, p. 250).