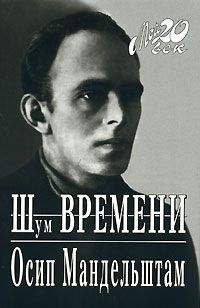Рудольф Штайнер - GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени
Сильный, вправду свободный человек не хочет воспринимать истину — он желает ее творить; он не хочет, чтобы ему что‑либо «дозволяли», он не желает повиноваться. «Философы в собственном смысле — повелители и законодатели: они говорят: «пусть будет так»; они‑то и определяют «почему?» и «для чего?» прочих людей и при этом располагают подготовительными заготовками всех философских работников, всех преодолителей прошлого; они простирают в будущее свои творческие длани, и при этом все, что есть и было, становится для них средством, орудием, молотом. Их «познание» — это созидание, а их созидание — законодательство, их стремление к истине — воля к власти. Есть ли такие философы теперь? Существовали ли уже такие философы? Разве не такими должны быть философы?» («По ту сторону добра и зла», § 211).
4
Особый признак человеческой слабости усматривает Ницше во всяческой вере в потусторонность, в иной мир, нежели тот, в котором обитает человек. Согласно его представлениям, невозможно нанести больший ущерб жизни, нежели устраивая свою жизнь в этом нашем мире в зависимости от иной жизни — в мире потустороннем. Невозможно впасть в большее помрачение, нежели усматривая за явлениями этого мира недоступные человеческому познанию сущности, которые должны рассматриваться в качестве непосредственного основания, определяющего все бытие. Исходя из таких предположений мы омрачаем себе всяческую радость от этого мира. Мы обесцениваем его до иллюзии, до простого отблеска того, недоступного мира. Знакомый нам мир, который только и действителен для нас, объявляется ничтожным видением, а подлинная действительность приписывается второму, призрачному и измышленному миру Человеческие ощущения провозглашают обманщиками, которые наделяют нас иллюзиями взамен реальных вещей.
Такие воззрения могут основываться лишь на слабости. Ибо сильный человек, прочно укорененный в действительности и радующийся жизни, не позволит и мысли о том, чтобы выдумывать иную действительность. Он занят этим миром и не нуждается ни в каком ином. А вот страждущие, больные, которые недовольны этой жизнью, ищут убежища в потустороннем. Того, чего они лишены «здесь», они должны удостоиться «там». Сильный, здоровый, обладающий развитым чутьем и здравым смыслом, чтобы отыскивать основания этого мира в нем же самом, не нуждается для объяснения явлений, среди которых он живет, ни в каких потусторонних причинах и существах. Слабый, воспринимающий действительность изуродованными глазами и ушами, он‑то и нуждается в стоящих за явлениями причинах.
Вера в потустороннее родилась из страдания и болезненного томления. Из невозможности пронизать взглядом реальный мир появились все гипотезы насчет «вещей как таковых». Все, у кого имеется причина для того, чтобы отрицать действительную жизнь, говорят «да» жизни вымышленной. Ницше желает утверждать действительность. Он намерен обследовать этот мир по всем направлениям, он хочет вгрызться в глубины бытия; ни о какой иной жизни он не хочет и знать. Даже страдание не в силах побудить его к тому, чтобы сказать жизни «нет»; ибо для него также и страдание — средство познания. «Подобно тому, как поступает путешественник, который предполагает проснуться к определенному часу, после чего спокойно погружается в сон, точно так же и мы, философы, в случае, если заболеваем, на время телом и душой предаемся болезни — мы также смежаем вежды перед самими собой. И подобно тому, как путешественник знает, что имеется здесь что‑то, что не спит, что ведет счет часам и пробудит его, так знаем и мы, что решающий миг застанет нас бодрствующими, — и тогда нечто выступит вперед и застигнет дух с поличным, я хочу сказать, поймает его на слабости или отступничестве, или покорности, или ожесточении, или помрачении, или как там зовутся все болезненные состояния духа, которым в здоровом состоянии противодействует гордость духа… После такого рода самовопрошания, самоискушения мы выучиваемся с большей зоркостью присматриваться ко всему, относительно чего до сих пор происходило философствование…» (Предисловие к 2–му изданию «Веселой науки»),
5
Этот благожелательный к жизни и действительности настрой Ницше обнаруживается также и в его воззрениях на людей и их взаимоотношения. В данной области Ницше — совершенный индивидуалист. Для него всякий человек — вполне самостоятельный мир, в полном смысле уникум. Поразительно пестрое разнообразие, объединенное в «единство» и предстающее нам в качестве определенного человека, не может сойтись вместе таким же точно образом в результате случая, каким бы удивительным он ни был («Шопенгауэр как воспитатель», § 1). Тем не менее только крайне малое число людей склонно к тому, чтобы развивать свои лишь однажды появляющиеся на свет особенности. Они пугаются одиночества, в котором тем самым оказываются. Удобнее и безопаснее жить точно так же, как и прочие; в таком случае ты никогда не останешься без общества. Того, кто устраивается на свой лад, не понимают другие люди, у него не бывает товарищей. Одиночество обладает особой притягательностью для Ницше. Он любит выискивать потаенные стороны своего внутреннего мира. Он избегает человеческого общества. Его умозаключения — это по большей части пробные скважины в поисках сокровищ, сокрытых в глубинах его личности. К свету, доставляемому ему другими, он относится с презрением; он не желает дышать заодно с другими тем воздухом, который вдыхают там, где обитает «общее в человеке», «правило «человек»». Он инстинктивно стремится к своим «убежищу и потаенности, где он избавлен от толпы, от множества, от засилия большинства» («По ту сторону добра и зла», § 26). В «Веселой науке» Ницше жалуется, что ему тяжело «переваривать» своих собратьев; а в «По ту сторону добра и зла» (§ 282) он сознается, что в большинстве случаев у него начинались опасные нарушения пищеварения, когда ему приходилось сидеть за столом, за которым вкушалось блюдо «общечеловеческого». Чтобы Ницше мог выносить людей, им не следовало подходить к нему слишком близко.
6
Ницше объявляет имеющими силу идеи и суждения — в такой форме, с которой выражают согласие раскованные жизненные инстинкты. Он не допускает никаких логических сомнений в воззрениях, в пользу которых высказалась жизнь. Благодаря этому его мышление обретает уверенную и свободную поступь. Его не сбивают с толку сомнения такого рода: а является ли утверждение истинным также и объективно, не выходит ли оно за пределы возможностей человеческого познания и т. д. Установив ценность высказывания для жизни, Ницше уже не задается вопросом относительно его дальнейшего объективного значения и области истинности. Не заботят его и границы познания. Его точка зрения такова, что здравое мышление осуществляет то, на что способно, и не мучится бесполезными вопросами: а чего оно не может?
Разумеется, тот, кому желательно установить ценность высказывания в соответствии со степенью, в которой оно способствует жизни, может установить эту степень лишь на основании собственного, индивидуального чувства жизни и жизненного инстинкта. Он никогда не сможет сказать что‑то большее, чем: что касается моего жизненного инстинкта, я считаю данное высказывание имеющим ценность. Также и Ницше, высказывая свою точку зрения, никогда не утверждает ничего другого. Как раз это его отношение к миру собственных идей имеет столь благотворное влияние на свободомысляще настроенного читателя. Это придает сочинениям Ницше черту непритязательного, скромного благородства. Какими отталкивающими и нескромными предстают рядом с этим высказывания прочих мыслителей, полагающих, что их личность — это орган, посредством которого миру возвещаются вечные, непреложные истины. В сочинениях Ницше можно повстречать фразы, говорящие о мощном самосознании, например такую: «Я дал человечеству глубочайшую книгу из всех, которыми оно располагает, моего Заратустру; вскоре я дам ему самую независимую» («Сумерки богов», «Наплывы несвоевременного», § 51). Однако как следует понимать такое высказывание Ницше? Я отважился на то, чтобы написать книгу, содержание которой извлечено из более глубоких пластов личности, нежели это обычно бывает в случае подобных книг; и я представлю книгу, которая более независима от всякого чужого суждения, нежели прочие философские сочинения; ибо относительно наиважнейших предметов я 111 юсто выскажу то, как относятся к ним мои личные инстинкты. Такова благородная скромность. Разумеется, она не по вкусу тем, чье фальшивое смирение говорит: сам я ничто, но мой труд — все; я не привношу в свои книги ничего от моих личных восприятий, но высказываю лишь то, что призывает меня провозгласить чистый разум. Такого рода люди склонны отрицать собственную личность, чтобы иметь основания утверждать, что их высказывания исходят от высшего разума. Ницше считает собственные высказывания порождениями собственной личности и ничем сверх этого.