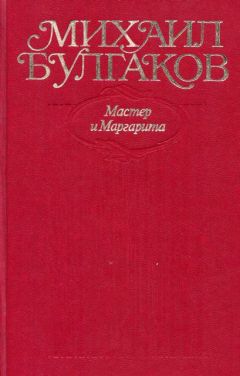Виссарион Белинский - Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова
Все сказанное нами очень нетрудно приложить к роману г. Лермонтова. Для этого мы должны проследить в его содержании, уже хорошо известном читателям, развитие основной мысли.
Роман начинается описанием переезда автора из Тифлиса чрез Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомит он нас с местностию. Очерки его столько же кратки, сколько и резки, а главное – они набросаны как будто бы мимоходом. В то время как его тележку тащили в гору шесть быков и несколько осетин, он заметил, что за его тележкою двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шел ее хозяин, куря из маленькой трубочки. Это был офицер, лет пятидесяти, с смуглым лицом и преждевременно поседевшими усами, которые не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Автор подошел к нему и поклонился; тот молча ответил на его поклон, пустив огромный клуб дыма.
– Мы с вами попутчики, кажется?
Он молча опять поклонился.
– Вы, верно, едете в Ставрополь?
– Так-с точно… с казенными вещами…
– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?
Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.
– Вы, верно, недавно на Кавказе?
– С год. – отвечал я. Он улыбнулся вторично.
– А что ж?
– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их знает, что они кричат? Быки-то их понимают: запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места… Ужасные плуты! А что ж с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих… Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!
– А вы давно здесь служите?
– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, – отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, – прибавил он, – и при нем получил два чина за дела против горцев.
– А теперь вы?..
– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?
Я сказал ему.
Таким образом завязалось у автора знакомство с одним из интереснейших лиц его романа – с Максимом Максимычем, с этим типом старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский, который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не походит ни на один из них. Искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу: как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба. Максим Максимыч получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах тяжелой и трудной службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных солдат да заходящих для мены черкесов. И все это высказывается в нем не в грубых поговорках, вроде «черт возьми», и не в военных восклицаниях, вроде «тысяча бомб», беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, – а во взгляде на вещи, приобретенном навыком и родом жизни, и в этой манере поступков и выражения, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозор Максима Максимыча очень ограничен; но причина этой ограниченности не в его натуре, а в его развитии. Для него «жить» значит «служить» и служить на Кавказе; «азиаты» его природные враги: он знает по опыту, что все они большие плуты и что самая их храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; он не дается им в обман, и ему смертельно досадно, если они обманут новичка и еще выманят у него на водку. И это совсем не потому, чтобы он был скуп, – о нет! он только беден, а не скуп, и сверх того, кажется, и не подозревает цены деньгам, но он не может видеть равнодушно, как плуты «азиаты» обманывают честных людей. Вот чуть ли не все, что он видит в жизни или, по крайней мере, о чем чаще всего говорит. Но не спешите вашим заключением о его характере; познакомьтесь с ним получше. – и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди этого, по-видимому, очерствевшего человека; вы увидите, как он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие; как, вопреки собственному сознанию, душа его жаждет любви и сочувствия, – и вы от души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах, лаконического в словах Максима Максимыча.
Опытный штабс-капитан не ошибся: осетинцы обступили неопытного офицера и громко требовали на водку. Но Максим Максимыч грозно прикрикнул на них и заставил разбежаться. «Ведь этакой народ, – сказал он. – и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!» …Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие…»
Вот наконец путешественники наши добрались до станции и вошли в саклю, переднее отделение которой было наполнено коровами и овцами, а другое людьми, сидевшими возле огня, разложенного на земле. По полу расстилался дым, обратно вталкиваемый ветром из отверстия в потолке. Наши путники закурили трубки, внимая приветливому шипению чайника.
– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.
– Преглупый народ! – отвечал он. – Поверите ли, ничего не умеют, неспособны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на ком не увидишь. Уж подлинно осетины!
– А вы долго были в Чечне?
– Да, я лет десяток стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода. – знаете?
– Слыхал.
– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..
– А, чай, много с вами бывало приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством.
– Как не бывать! бывало…
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался.
И вот Максим Максимыч весь перед вами, с своим взглядом на вещи, с своим оригинальным способом выражения! Вы еще так мало видели его, так мало познакомились с ним, а уже перед вами не призрак, волею или неволею принужденный автором служить связью или вертеть колесо его рассказа, а типическое лицо, оригинальный характер, живой человек! Так осуществляют свои идеалы истинные художники: две, три черты – и перед вами, как живая, словно наяву, стоит такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете… «Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался»: как много сказано в этих немногих, простых словах, какую резкую черту проводят они по физиономии Максима Максимыча, как много обещают, как сильно разманивают любопытство читателя!..
Приняв поданный ему стакан чая, Максим Максимыч отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывает!» Но мы еще должны несколько поговорить словами самого автора:
Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет здравствуйте (потому что фельдфебель говорит здравия желаю). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.
– Не хотите ли подбавить рома? – сказал я моему собеседнику. – у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.
– Нет-с, благодарствуйте, не пью.
– Что так?
– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, когда Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка – пропадший человек!
Услышав это, я почти потерял надежду.
– Да вот хоть черкесы, – продолжал он. – как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.
– Как же это случилось?
Вот начало поэтической истории «Бэлы». Максим Максимыч рассказал ее по-своему, своим языком; но от этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем, или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем?..