Лев Гинзбург - Разбилось лишь сердце мое... Роман-эссе
Элоиза стала монахиней. В монастырь ушел также и Абеляр.
Он написал «Введение в теологию», трактат «О божественном единстве и троичности». Его труды признали кощунственной ересью.
Абеляр удалился в пустынь, в округ Труа, в долину реки Ардюссона. Из тростника и соломы он выстроил себе молельню. Узнав об этом, его ученики, ваганты, начали стекаться к нему и, покидая города и замки, селиться близ его молельни, в пустыни. Их тянуло к знаниям больше, чем к вину. Вместо просторных домов они строили маленькие хижины, вместо изысканных кушаний питались полевыми травами и сухим хлебом, вместо мягких постелей оборудовали себе ложе из соломы, вместо столов делали земляные насыпи. Ученики обрабатывали поля, чтобы снабдить учителя всем необходимым. Переписывались и распространялись его книги.
Муж, в науках преуспевший,
безраздельно овладевший
высшей мудростью веков,
силой знания волшебной,
восприми сей гимн хвалебный
от своих учеников!
Чем он завоевал их сердца, их умы? Доводами. Он внушал: излишни слова, недоступны пониманию; нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял; смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом. Не сам ли господь жаловался, что поводырями слепых были слепцы?
Наибольшей известностью среди вагантов пользовались «Введение в теологию», «Познай самого себя», «Диалектика». Церковному «верую, чтобы понимать» здесь противопоставлялось — «понимаю, чтобы верить».
В глазах церкви Абеляр считался опаснейшим из еретиков. Самый дух его учения был порочен. На него доносили, что он занес ржавчину в простые умы. Вместо «живой веры» он требует рассуждений. Он относится с подозрением к богу и желает верить только тому, что ранее исследовал с помощью разума.
Учеников Абеляра называли бесстыдными, безумными. Их образ жизни развратным и беспорядочным. Их обвиняли в наглости: невежественные школяры смеют рассуждать о святой троице!
Абеляр в своей новой книге «История моих бедствий» писал: «Чем шире распространялась обо мне слава, тем более воспламенялась ко мне ненависть». В ней подробно описана трагедия Элоизы и Абеляра.
Автобиография Абеляра попала к Элоизе. Она читала ее, уже будучи аббатисою женского монастыря.
Она взялась за перо, чтобы написать письмо, быть может величайшее из всех женских писем:
«Своему господину, а вернее — отцу, своему супругу, а вернее — брату, его служанка, а вернее — дочь, его супруга, а вернее — сестра, Абеляру Элоиза…»
Тогда в монастырях еще не утрачено было право переписки, не отнято. И Элоиза призывала Абеляра ответить ей, вспоминая при этом Сенеку, писавшего своему другу Люцилию:
«Благодарю тебя за то, что ты часто мне пишешь. Ведь это единственный для тебя способ явиться ко мне. Всякий раз, получая твое письмо, я сейчас же вижу тебя со мной вместе».
Письма могут обладать таким чудодейственным свойством. Мы это знаем.
Элоиза писала:
«Если нам приятно смотреть на портреты отсутствующих друзей, ибо эти портреты оживляют нашу память о них и обманчивым, призрачным видом утоляют тоску по отсутствующим, то еще приятнее письма, в коих мы получаем осязательные приметы отсутствующего друга. Благодарение богу, никакая злоба не помешает тебе общаться с нами, хотя бы этим путем, никакие помехи не воспрепятствуют тебе в этом, и, умоляю тебя, пусть не задержит тебя и никакая небрежность».
Вот что писала невольная затворница скопцу. Мужу — жена. Без всякой надежды увидеться. Быть вместе. Но, кажется, ничего на свете нет выше их переписки.
В сборнике «Лирика вагантов» горестные стихи женщин были навеяны мне образом Элоизы.
…Горькие слезы застлали мне взор.
Хмурое утро крадется, как вор,
ночи вослед.
Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя и меня
в серый рассвет.
Судьба разлучила Абеляра и Элоизу, но поставила их имена навсегда рядом:
Абеляр и Элоиза.
Их переписка обычно печатается вместе с «Историей моих бедствий»…
Ваганты продолжали распространять сочинения Абеляра. Из Франции они попали в Италию, в Германию, в Англию. Их дух, дух воли и разума, живет во всей лирике вагантов.
Правда правд, о истина!
Ты одна лишь истинна!..
…Я возвращался из Аахена в Кёльн. За несколько дней до этого в самом сердце Кёльнского собора я видел саркофаг, в котором покоится прах Райнальда фон Дасселя. Я видел раку трех волхвов, украшенную золотыми фигурами Моисея, Аарона, царя Соломона, Иеремии, Ионы, Авдия… Изготовленные аахенскими мастерами в XIII веке, они поражали сходством с античными скульптурами, гармоничностью, естественностью. Это было, выражаясь научным языком, искусство проторенессанса XIII века. В Аахене в древнем соборе я рассматривал мраморный трон Карла Великого и Фридриха Барбароссы, под которым сквозь специальное отверстие проползали вассалы, демонстрируя восседавшему на троне императору свою безграничную покорность и преданность. Император тем временем наблюдал за богослужением.
При въезде в Кёльн у здания одного из ведомств стоял «Hungerstreik aus Liebe!» («Голодовка из-за любви!..»). Он размахивал какой-то книгой.
Что заставило этого человека написать такие слова, пойти к зданию официального ведомства?
Безучастно смотрели на него, подходя к окнам, чиновники. Шли мимо редкие прохожие. Проносились автомобили…
Я переводил лирику вагантов. Я знал историю Абеляра и Элоизы. Я переводил балладу о графе фон Фалькенштейне: перед любовью расступились стены крепости, смягчилось сердце феодала.
Я переводил «Балладу о вейнсбергских женах»: тронутый любовью и верностью, всемогущий кайзер снял осаду с города Вейнсберга.
Я переводил любовную лирику десяти веков. Поэты, большие и малые, пели о силе любви, о том, что любовь сильнее смерти, о том, что любовь прочнее всех крепостей, о том, что перед любовью бессильны решетки, стены, границы.
Но вот здесь, передо мной, на кёльнском асфальте стоял молодой человек и взывал: «Hungerstreik aus Liebe!» — ГОЛОДОВКА ИЗ-ЗА ЛЮБВИ!..
И на это никто не обращал никакого внимания.
Это был двадцатый век. Его последняя четверть.
4
О фортуна!..
Трудно разгадать загадки судьбы, узнать, что будет. А узнать, что было?
Я вспомнил об одном автомобильном путешествии в Прибалтику…
…Это было похоже на двор пожарной команды, с сарайными, выкрашенными в зеленый цвет дверьми гаражей, — пустынный двор, по которому прохаживался одинокий дежурный солдат. Из-за забора виднелась тюрьма с ржавыми козырьками на окнах.
Сметанина в конторе не оказалось, он уехал обедать.
В это время с улицы вошел молодой человек в штатском, посмотрел на меня с беззлобно-профессиональным вниманием и осведомился, что мне здесь нужно.
Это и был Сметанин. Не выписывая пропуск, он провел меня к себе, в прохладный свой кабинет…
Собственно говоря, я сюда заехал по пути к морю, хотя повод уж очень был не курортный: история местного гетто, которую я хотел описать в связи с тем, что в Западной Германии нашли бывшего его начальника и гебитскомиссара, их вроде бы собирались сейчас там судить, даже уцелевших свидетелей будто бы вызывали. Обо всем этом я мельком слышал в редакции «Литературной газеты» в Москве, но подробности мне посоветовали выяснить прямо на месте через Сметанина, который все это дело расследовал.
И все же была у меня еще одна — интимная, можно сказать, — причина посетить этот город, в котором я прежде никогда не бывал, но в котором родилась и вышла замуж за моего отца моя мать и с которым у меня было связано множество семейных преданий. С детских лет я то и дело слышал от матери, от отца, от дедушки с бабушкой об этом городе, где до первой мировой войны (или, как тогда выражались, «в мирное время») они жили на Шильдеровской улице, покуда наступление немцев не заставило их в 1915 году, то есть за шесть лет до моего рождения, перебраться в Москву и осесть в ней уже окончательно.
Странное дело, но в раннем детстве Москва казалась мне намного меньше того провинциального прибалтийского города, который в моем представлении был беспредельным, как мир. Да это и был своего рода мир, манящий мир фамильных традиций, легенд, праздников и всевозможных событий, навсегда оставшихся за гранью истории.
И вот летом 1966 года, когда никого из тех, кто некогда обитал на Шильдеровской улице, уже не было в живых, я эту грань переступал, вернее переезжал, захватив с собой жену и детей, которых тоже хотел приобщить к семейным преданиям. Но детей почему-то все это мало трогало. Отгороженные от всего, что здесь было, благополучной жизнью своей среды и своего поколения, они думали о том, как бы поскорей, проскочив через этот город, попасть к морю, и, сидя за моей спиной в «Победе», они почти не смотрели по сторонам, погрузившись в чтение «Тихого Дона» (сын) и «Прощай, оружие!» (дочь).

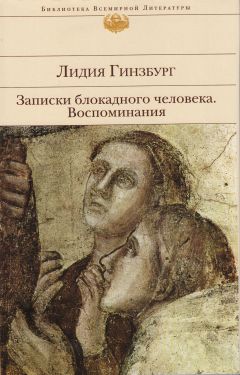
![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/uploads/posts/books/13908/13908.jpg)