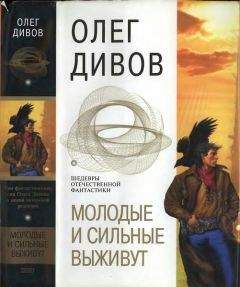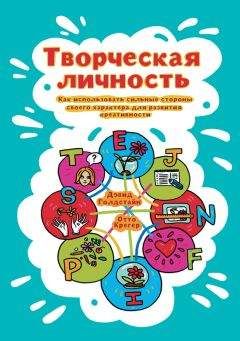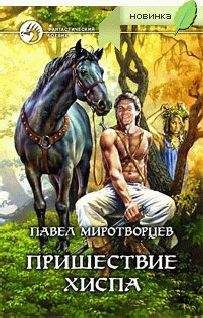Владимир Набоков - Лекции о "Дон Кихоте"
— Сама не знаю, клянусь спасением души, — отвечала она. — Я тоже слушаю чтение и, по правде говоря, хоть и не понимаю, а слушаю с удовольствием. Только нравятся мне не удары — удары нравятся моему отцу, а то, как сетуют рыцари, когда они в разлуке со своими дамами; право, иной раз даже заплачешь от жалости.
— А если бы рыцари плакали из-за вас, вы постарались бы их утешить, милая девушка? — спросила Доротея.
— Не знаю, что бы я сделала, — отвечала девушка, — знаю только, что некоторые дамы до того жестоки, что рыцари называют их тигрицами, львицами и всякой гадостью. Господи Иисусе! И что же это за бесчувственный и бессовестный народ: из-за того, что они нос дерут, честный человек должен умирать или же сходить с ума! Не понимаю, к чему это кривлянье, — коли уж они такие порядочные, так пускай выходят за них замуж: те только того и ждут».
Весь этот разговор весьма занятен. Первоначальный эпизод сжигания книг всплывает вновь, когда священник хочет сжечь несколько рыцарских романов, оставленных у хозяина постоялого двора. Похоже, священник ценит в них сходство с реальностью или историей.
ГЛАВЫ 33-35
Вставная повесть. Рукопись, хранящаяся в небольшой, но тщательно подобранной библиотеке хозяина. Священник предлагает почитать ее вслух, хотя полезнее было бы употребить время на сон, но тут Сервантес вовремя вспоминает, что Доротее, в ее плачевном положении, уснуть, возможно, будет нелегко.
«— Для меня лучшим отдыхом было бы послушать какую-нибудь историю, — сказала Доротея. — Смятение, в коем еще пребывает мой дух, все равно не даст мне уснуть, хотя сон был бы мне необходим».
В главе 33 воодушевленный Доротеей священник приступает к чтению повести о безрассудно-любопытном. Треугольник — два друга, Ансельмо с Лотарио, и Ансельмова жена Камилла, которую муж задумал испытать с плачевным для себя результатом, совершенно в духе Ренессанса. Современники автора жадно поглощали эти остросюжетные любовные истории. Мне хочется, чтобы вы обратили внимание на трафаретную метафору земных недр:
«Если же все, какие только ты пожелаешь, богатства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чистоты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе рыть землю в поисках новых месторождений нового, доселе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчивых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто добивается невозможного, тому отказывают и в возможном». Мы назовем это Сравнением Золотоискателей.
Интрига следует по своему извилистому пути. Любые немыслимые уловки, обман и подслушивание служат привычной пружиной действия.
ГЛАВА 36
На постоялый двор прибывают четыре всадника в масках и горько вздыхающая женщина. Лусинда, которой оказывается эта женщина, воссоединяется с Карденьо, а дон Фернандо с Доротеей — все это происходит, пока Дон Кихот спит наверху.
ГЛАВА 37
В начале главы 35 чтение священника было прервано Дон Кихотом, которому приснилось, будто он сразил оскорбившего Доротею великана; на самом деле он пропорол мечом бурдюки с вином, висевшие на стене. Друзья Дон Кихота решают продолжать обман, и после того как рыцарь спрашивает, не превратилась ли она в обыкновенную девушку, Доротея вновь становится Принцессой Микомиконской. На постоялый двор прибывает странник, бывший невольником у мавров, и с ним мавританка под покрывалом. Дон Кихот начинает вдохновенную речь о странствующем рыцарстве.
ГЛАВА 38
Дон Кихот продолжает свою речь. Однако комментатор испанского текста замечает, что «подобное обсуждение темы о поприще ученого и военного — кто терпит большие тяготы, нищий студент или воин и т. п. — уходит корнями в древнюю средневековую литературу и в XVI веке становится общим местом». В данном случае этот отрывок играет важную роль в построении романа: в нужное время и в нужном месте он укрепляет и возвышает дух Дон Кихота. Обратите внимание на резкие слова в адрес огнестрельного оружия, появление которого положило конец тому виду странствующего рыцарства и тому способу ведения боя, которым привержен Дон Кихот:
«Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро, — он полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги, что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца, и вдруг откуда ни возьмись шальная пуля (выпущенная человеком, который, может статься, сам испугался вспышки, произведенной выстрелом из этого проклятого орудия, и удрал) в одно мгновение обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаждаться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше подлое время, ибо хотя мне не страшна никакая опасность, а все же меня берет сомнение, когда подумаю, что свинец и порох могут лишить меня возможности стяжать доблестною моею дланью и острием моего меча почет и славу во всех известных нам странах. Но на все воля Неба, и если только мне удастся совершить все, что я задумал, то мне воздадут наибольшие почести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими опасностями, с какими странствующие рыцари протекших столетий доселе еще не встречались».
ГЛАВЫ 39-41
За речью Дон Кихота следует Повесть о пленном капитане. Исторический фон здесь — борьба союзников (Фландрии, Венеции и Испании) с турками (турками, маврами, арабами), время — 60-70-е годы XVI века. И вновь испанский комментатор указывает, что рассказ об отце, посылающем в мир трех своих сыновей, чтобы те избрали указанный им путь, — вещь в европейском фольклоре обычная. В данном случае им предлагается выбрать «либо церковь, либо моря, либо дворец короля» — попросту говоря, науку, торговлю или военную службу. Пленение капитана (избравшего военное поприще) представляет особый интерес, так как его история напоминает жизненную историю Сервантеса. При Лепанто «я прыгнул на неприятельскую галеру, но в эту самую минуту она отделилась от нашей, в силу чего мои солдаты не могли за мною последовать, и вышло так, что я очутился один среди врагов, коим я не мог оказать сопротивление по причине их многочисленности, — словом, весь израненный, я попал к ним в плен». Эта вставная повесть совершенно иного сорта, чем предыдущие. Но останется ли ее тон «реалистичным»?
Автор выводит себя в романе под именем испанского солдата Сааведры:
«<…> тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова, а между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную из его проделок посадят на кол, да он и сам не раз этого опасался. И если б мне позволило время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивления достойным, нежели моя история»{46}.
В сороковой главе история пленника принимает романтический оборот, что не идет ей на пользу. Она в самом деле теряет живые краски. В главе 41 история о прекрасной Зораиде, которая помогла молодому испанцу бежать и убежала вместе с ним, тянется невыносимо долго. [NB! ее отца зовут Хаджи Мурат]. Однако в ней появляется некоторая выразительность, когда старый мавр поносит беглянку-дочь.
«О беспутная девка, о дитя неразумное! Почто отдалась ты во власть этих псов, исконных врагов наших! Да будет проклят тот час, когда я тебя породил, и да будут прокляты веселья и приятности, в коих я взрастил тебя!» Но в целом эта повесть лишь немногим превосходит предыдущие вставные повести, написанные на итальянский лад. Однако в ней есть привлекательные сцены, как, например, эпизод с галантным французским пиратом. «Было, наверное, около полудня, когда нас посадили в шлюпку и дали нам два бочонка с водой и немного сухарей. Когда же в лодку спускалась прелестнейшая Зораида, капитан, внезапным состраданием движимый, вручил ей сорок золотых и не позволил морякам снять с нее те самые одежды, в коих вы ее сейчас видите». А также очаровательный рассказ о первом человеке, которого они увидели, высадившись в Испании: «И вот, когда мы прошли около четверти мили, до слуха нашего долетел звон колокольчика — явный знак того, что поблизости должно было быть стадо. И, внимательно оглядевшись, не видать ли кого-нибудь, заприметили мы юного пастуха: безмятежный и беззаботный, он, сидя под дубом, вырезал ножом палочку».