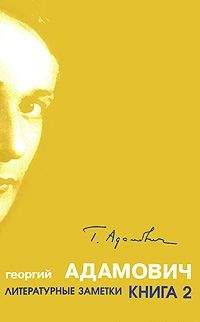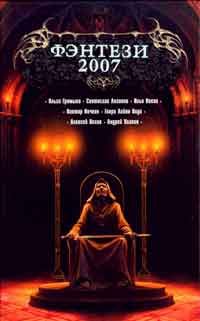Георгий Адамович - Литературные заметки. Книга 1 ("Последние новости": 1928-1931)
Это одна из самых грустных и как бы «безысходных» книг, которые были написаны за долгие годы. Откуда она, эта грусть? Разгадка, кажется, в том, что у других авторов «военных книг» героями бывали люди, попавшие на войну уже более или менее зрелыми, во всяком случае с некоторым запасом жизненных впечатлений. Они жили до войны, и хотя война их существование нарушила, они сумеют после нее связать бывшее с будущим, старое с новым, продолжить жизнь, подобрав «оборванные нити». У Ремарка действуют и говорят дети. Глаза их открыты на мир широко и доверчиво, и первое, что они увидели в мире, — война, притом война без того романтизма, которым при желании можно было бы окутать ее еще недавно, хотя бы в наполеоновские времена, без удали, героизма, театральности, эффектных атак, блистательных смертей, а война как будто обнаженная, жестокая, удручающе прозаическая и серая. Война связала их души особой, повышенной дружественностью, но что это за утешение — когда все они обречены? Если кто-нибудь и спасется от пули — у Ремарка не спасается никто, — все равно для жизни он уже не будет годен. Его будет преследовать не то ощущение пустоты и ничтожности обыденной, повседневной жизни, о котором так много писали французские романисты и в числе их даже престарелый Поль Бурже, — нет, что-то другое. «Негодность к службе» в общежизненном смысле, — негодность человека, которого обухом ударили по голове. Пауль Беймер, ремарковский герой, вовсе не замечательный человек. Но он ставит по поводу войны вопрос глубокомысленный и наивный одновременно, вопрос, бьющий в «самую точку» дела. «Как бессмысленно все то, что написано, создано, придумано, если возможно что-либо подобное… Значит, все было ложью, все не имело значения, если тысячелетняя культура не могла даже предотвратить потоки крови?» Конечно, если бы сознание и душа Беймера не были так «девственны», если бы они уже были тронуты и в своей впечатлительности ослаблены жизнью, он такого вопроса себе не задал бы. «Взрослые» люди обходят такие вопросы, а в случае нужды умеют ловко и не без успеха их разрешать. Но Беймер – ребенок, еще не привыкший к компромиссам и внутренним сделкам. В прекрасном эпизоде «домашнего отпуска» – лучшем в книге, на мой взгляд, – уже становится ясно, что Беймер должен как бы «возвратить билет» на право жизни, вольно или невольно. Он не то что увидел зло в мире, он его без остатка вобрал, впитал в себя и с ним жить не может. Ремарк в предисловии к книге говорит, что хотел показать «поколение, разбитое войной». Он его и показал, и выяснилось, что он показывает сплошь «мертвые души». Оттого, вероятно, вся Европа и прочла с таким волнением его книгу, что она чувствует ответственность за гибель целого поколения – даже если оно «спаслось от пуль», как говорит Ремарк – и при более остром моральном сознании, при большей памятливости, чем та, что бывала у людей прежде, не знает, как себя оправдать.
«Dulce et decorum est pro patria mori». Сладко и прекрасно умереть за отечество. Две тысячи лет – и даже больше, с тех пор, как помнит себя человечество – это казалось неоспоримой истиной. И вот на наших глазах это перестает быть истиной… Пафос Ремарка совсем иной, и невозможно представить себе, чтобы что-либо подобное могло быть написано прежде. Были писатели много даровитее, много значительнее, но этой книги они написать не могли. Не существовало «материала» для нее, не было еще в мире того чувства, которое овладело людьми теперь и которое есть достояние нашего времени. Например, Толстой. С каким трудом пробивался он сквозь все, что ему казалось ложью, но для окружающих было еще незыблемой истиной, какую борьбу он вызвал и какие силы были ему даны. Силы Ремарка неизмеримо скромнее, но он естественно и легко произносит слова, предвидит выводы более разрушительные для традиционных представлений о государстве, праве, войне, доблести, патриотизме и пр., чем слова и выводы толстовские. Огромное расстояние пройдено человеческим сознанием за последние десятилетия, — будто «тронулся лед», а раньше все было или казалось неподвижно. Идеал самопожертвования остался и сомнению не подвергается, но цель и «объект» его разбиты. Личность хочет оправдания жертвы. Вспомните, например, Владимира Соловьева, иронизировавшего в «Трех разговорах» — «жили люди, служили царю-батюшке, воевали, знали, что делают святое дело, и вдруг, скажите пожалуйста, оказывается, что дело их не только не святое, а ужасное и позорное!» Соловьев иронизировал над Толстым, конечно, и хотел представить его одиноким, запутавшимся чудаком. Но прошло всего три десятилетия, и книга, в которой толстовское ощущение ужаса, бессмыслицы и позора доведено до крайних пределов, расходится по всему свету, не вызывая изумления. Европа оказалась подготовленной к восприятию ее, она не спорит с Ремарком, она с полуслова его понимает. Действительно, значит, «старый мир» кончается, если это возможно! И ведь у Ремарка, в сущности, речь идет вовсе не об одной только войне, – потяните за веревочку, за войной окажется вся общественная мораль «старого мира». И ведь Ремарк вовсе не выдумал, не сочинил своей книги, она ему в основной теме продиктована тысячами его современников, собратьев, соратников. От «dulce et decorum» не осталось в мире и следа, и нравится или не нравится, с этим приходится считаться всякому, кто хочет считаться с жизнью и ее духом. Надо считаться — но едва ли можно бороться с этим или что-нибудь этому противопоставить. Муссолини запретил Ремарка в Италии. Такая «охранительная» политика есть верный признак бессилия перед противником. Но рано или поздно жизнь прорвет кордоны.
* * *
Можно ли утверждать, что в успехе Ремарка – творческом и читательском – главную роль сыграли «нервы», т. е. слабость современного человека, его впечатлительность и измельчание? Не думаю. Эти ницшеанские толкования удобны, но не убедительны. Однако не следует и уменьшать значения «нервов», пренебрегать ими. Нервы — это показатель сложности и восприимчивости духовной организации, и под словом с «презрительным оттенком» здесь заключено содержание, презрения никак не заслуживающее. Нервы — это ведь и «победа над зверем»… Вспоминается крылатое гинденбурговское замечание о войне и нервах при чтении Ремарка, и звучит как предостережение. Ремарк не касается никаких экономических и политических вопросов, но его «духовный» диагноз вне сомнений: новой войны Европа не выдержала бы, и если бы повторилось то, что было в 1914 году, бессмыслица и ужас войны захлестнули бы и унесли с собой в душе человека все и вся. Ремарк, пожалуй, не боится этого — он старой Европы не любит, ему ее не жаль. Но он этого и не зовет, потому что будущее для него темно и неясно.
«Современные записки», книга XL. Часть литературная
После довольно долгого перерыва возобновилось в «Современных записках» печатание «Жизни Арсеньева».
Роман начат был Буниным в темпе настолько медленном, и охват его казался настолько широким, что когда оборвалось печатание «Жизни», само собой явилось сомнение: окончит ли свой роман Бунин, не суждено ли этому произведению остаться лишь вступлением к какой-то огромной ненаписанной книге? Ведь до сих пор Бунин рассказал только о «детстве и отрочестве» своего героя, и это детство с отрочеством заняло три книги. Впереди была целая жизнь, и вот невольно думалось: не увлечется ли писатель каким-нибудь новым замыслом во время долгой работы над «Жизнью Арсеньева», захочет ли ограничить себя одной темой, как бы богата она ни была?
Новая часть «Жизни» не вполне рассеивает эти сомнения. Скобок со словами «продолжение следует» мы не находим, однако не сказано и «окончание». Читателю предоставляется думать, что угодно. И читатель тем более озадачен, что в последнем отрывке новой части действие внезапно перебрасывается из России на юг Франции и оказывается с эпизодом из быта эмиграции: смертью и похоронами великого князя Николая Николаевича. По всей вероятности, это отступление является лишь вольностью в ходе повести, а не ее заключением. Похороны великого князя в качестве заключения всей «Жизни Арсеньева» – это было бы слишком неожиданно, слишком насильственно по отношению к главной линии замысла. Но как знать, согласится ли с этим автор? «Жизнь Арсеньева» – это долгий, протяжный «плач о погибшей России», великолепная «отходная» всему тому, что Бунин в России любил: укладу, строю, устоявшемуся спокойствию и картинному благолепию ее, – и что в прежнем облике никогда не удастся никакими силами воскресить: уж кто-кто может на этот счет обольщаться, только не Бунин. С такой точки зрения погребение последнего «вождя», окончательный конец трехсотлетней династии может показаться символическим…
Первые десять-двенадцать глав новой книги «жизни» незаметно и естественно сливаются с уже знакомыми главами. Поэтому сначала внимание задето сравнительно слабо. Но мало-помалу очаровательный и мощный поэтический дар Бунина дает себя знать, овладевает положением и подчиняет себе читателя. Любопытно, что по силе одушевления «великокняжеский» эпизод, пожалуй, самый замечательный. Бунин вплетает в него описание южной зимней ночи, со стремительным мистралем и черно-вороненым небом, «в белых, синих и красных пылающих звездах». Он как будто не жалеет никаких средств, чтобы дать картину обреченности и непрочности всего сущего в нашем мире и достигает высокого пафоса.